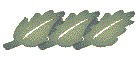 |
ДРУГ
ДЕТЕЙ - ТОЛСТОЙ Из
воспоминаний его современников |
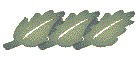 |
ЯСНОПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА
Из воспоминаний ученика
яснополянской школы[1].
В 1859 году ранней
осенью нам оповестили по деревне, Ясной Поляне, о желании Льва Николаевича
открыть школу в Ясной Поляне и о том, чтобы желающие дети приходили учиться,
что школа открывается бесплатная. Я помню, какая была суматоха. На деревне
начались сходки, начались разные толки, суждения:
«Как? Почему? Не обман ли какой? Махина не махонькая
учить бесплатно. Их, пожалуй, наберется пятьдесят ребят, а то и больше. Он
обучит и отдаст их в солдаты. И они как раз попадут под
турку».
«Вы как хотите, а я
пошлю своего»,— сказал один, за ним другой и третий,
помялись некоторые, согласились и все: «И я, и я своего...»
На проулок стали
собираться ребята, некоторых их отцы и матери провожали, каждый своего. Шествие тронулось, и я позади всех, провожаемый
своей сестрой. Через несколько минут
мы стояли перед домом Льва Николаевича. Шушукаются ребята между собой.
Я стоял, как собачий
объедок, чувствуя, что я хуже всех одет, даже и меньше всех ростом, беднее всех
и сирота. Мне мерещилось: «Ну-ка меня прогонят».
Вот решение судьбы: послышался сверху, где-то по лестнице, голос мужественный, но и как бы ласковый.
— Давно пришли?
— Давно уже.
Одна секунда, и на
крыльце появился человек, наш учитель. Все обнажили головы и низко поклонились.
Я с замиранием сердца ухватился за сестру, держась ее сзади, и стоял за ней,
как за маленькой крепостью.
— Ну вот, я очень рад,—
сказал он, улыбаясь и осматривая всех.
И он быстро пронизал глазами толпу, отыскивая маленьких, что спрятались за отца или за мать. Он вошел в середину толпы и начал спрашивать первого мальчика:
— Ты хочешь учиться?
— Хочу.
— Как тебя звать?
— Данилка.
— А фамилия твоя?
— Козлов.
— Ну вот, мы будем учиться.— И он начал обращаться к каждому мальчику: — Как тебя звать?
— Игнатка Макаров.
— Тебя?
— Тараска
Фоканов.
Поворачиваясь в другую сторону, Лев Николаевич наткнулся на мою сестру.
— Ты что, учиться пришла? Будешь учиться? И девочки приходите. Все будем учиться. Очередь дошла до меня.
— Ты что, учиться хочешь?
И глаз на глаз я стоял перед учителем, трясся, как осиновый лист.
— Хочу,— ответил я ему робко.
— Как тебя звать?
— Васька.
— А фамилию знаешь свою? — спросил он, и мне показалось: он смотрел на меня, как на заморуха.
— Знаю.
— Скажи.
— Морозов.
— Ну, я тебя буду помнить. Морозов Васька-кот.— И улыбнулся, и лицо его показалось мне одобрительным. Мы будто как виделись когда-то с ним раньше.
— Ну, Морозов, пойдем.
Макаров, Козлов, идите все за мной.
Мы поднялись по длинной
лестнице и очутились в большой комнате, высокой, как молотильный в деревне сарай.
Потолок был чистый, пол тоже хороший, чище наших столов, на стенах висели
какие-то картины.
В другой комнате так же
было светло, пол и потолки чистые, так же высоко. Картин не было. Посредине
комнаты стояли длинные скамейки и такие же длинные столы. На стене висели две
черных доски. Тут же на полочке лежал мелок. В углу стоял шкап
с какими-то книгами, бумагами и графильными досками.
— Ну, вот здесь будет наша школа, все будем учиться! А если будет тесно, мы займем и здесь,— указал он на первую комнату.
— Я думаю, вы еще не все
собрались, некоторые остались.—
И он обвел нас всех глазами, и вопросительный взгляд его остановился с улыбкой на мне.
Я растерялся, и мы никто
ничего не отвечали.
Не добиваясь от нас
ответа, видя нашу застенчивость, он взял мелок и сказал:
— Мы сегодня заниматься
не будем, а завтра,— и начал писать на черной доске буквы А,
Б, В, Г, Д, Ж,— вот с завтрашнего дня мы так начнем учиться. А теперь пойдемте,
я вам покажу, где я живу.
Он отворил еще комнату, взошел и сел на кресло. Комната была менее тех комнат, где мы будем учиться. Но в ней были диваны, кресло, стулья, столы, бумаги, картины, какая-то «лебасторная» фигура, похожая на человека, висело ружье, и какая-то плетеная сумочка, и много кое-чего, чего мы отроду не видали.
Все это меня и нас всех
интересовало.
— Вот тут я живу и
ночую,— сказал весело наш учитель, улыбаясь на всех мило, как бы стягивая с нас
покрывало застенчивости.
Такая безмолвная беседа с нашей стороны, похоже, затрудняла его: как вызвать от нас разговор?
Он начинал спрашивать у нас отдельно то у того, то у другого:
— Козлов, сколько тебе лет?
— Двенадцать.
— А что ты летом делал?
— Я-то?
— Да.
— Пахал, скородил[2].
— Это хорошо. Помогал отцу?
— Да, помогал. Он лешил[3], а я запахивал.
— А ты, Макаров?
— И я пахал.
— А ты?
— И я пахал, скородил, лошадей
стерег. Все оказались помощниками своих семей.
— Теперь я вас запишу,
как звать и фамилии.— Взял перо, бумагу.— Ну, Морозов, Макаров, Козлов,
Фоканов, Воробьев,— и так далее.— Кажется, всех я вас записал, двадцать два человека.
Завтра приходите пораньше. Будем учиться. Прощайте. Приходите. Я буду ждать.
Мы вышли из школы,
прощаясь с своим дорогим учителем, обещаясь завтра
рано приходить. Восторгу нашему не было конца. Мы друг другу рассказывали,
будто как из нас кто не был, как он выходил, как спрашивал, как разговаривал,
как улыбался.
— А ведь хороший он. А
такой дюжой, гладкий и некрасивый. Борода черная, как
цыганская. А волосы, как у нас, длинные, нос широкий. А как окинул нас глазами.
Я сразу испугался. А как начал спрашивать да улыбаться, тут он мне понравился,
и я будто перестал бояться.
Так рассказывал Кирюшка, и действительно, так все чувствовали.
— А в нем пудов, пудов,
должно, будет,— заключил Макаров.
На
другое утро мы как бы по сигналу собрались дружно... потянулись лентой по
лестнице и взошли в знакомую комнату, прошли в другую, где были черные доски и
где еще не были смараны вчерашние буквы. Мы свернулись клубочком, тесно стояли около черной доски, посматривая
на буквы. Тишина была мертвая, никто не шептался между собой, каждый думал, что
бог даст.
Вдруг издали звонко, весело раздалось: «А, Б, В, Д». И частые шаги послышались по первой комнате. И к нам взошел вчерашний знакомый, наш учитель, дюжой, черный.
— Здравствуйте. Все пришли?
— Все,— робкими
голосами отвечали на вопрос его каждый за себя...
— Ну, теперь будем
заниматься, начнем учиться.— Он взял мелок и написал все остальные буквы.
— Ну, теперь говорите
за мной.— Затем взял палочку, которая служила указкой, и воткнул указкой в
первую букву.— Ну, говорите за мной: а, бе, ве.
Переводя указку на другие буквы: ге, де, же, сделал запятую, поворачивая опять к первой букве.
— Это а, бе...— и так далее до
отметки.
Мы тянули нараспев за
ним, поначалу потиху, без голосу, но дальше усвоили
голоса, громче и громче твердили за ним.
Каждому хотелось, чтобы
и его голос был слышен, и мы до того распелись, что потеряли все приличие,— сперва боялись даже взглянуть на Льва Николаевича, а то так
разошлись, что его стеснили, и несколько рук держались за его блузу.
— Вот и прекрасно. Кто
может повторить? Я буду спрашивать,— сказал Лев Николаевич, тыкая в первую
букву указкой.— Это что?
У нас вышло
замешательство, хотя знали и запомнили первую букву, но что-то оторвалось,
будто боялись своего голоса.
— Вы забыли? Кто скажет
из вас, кто помнит? — И свой взгляд он перевел на доску. Он понял нас, что
взглядом мешает нашему ответу.
В этот момент я
пропищал как бы не своим голосом, а будто чьим-то чужим, скороговоркой:
— А.
За мною дружно потянули все.
— Так, хорошо. Дальше. Это что?
Опять заминка. Я опять тявкнул, но неправильно:
— Би.
За мною послышались голоса:
— Бе.
Я, как выдачка изо всех, за ошибку свою почувствовал стыд. От
зоркого глаза мой стыд не ускользнул. И вот мне уже представилось наказание.
— Так, так, это хорошо.
Кто сказал первый? — полусерьезно, с милой улыбкой смотря на меня,
спрашивал Лев Николаевич.
Я не отвечал, робел. Кто-то из толпы выдал меня, кажись Кирюшка.
— Это Морозкин
ошибся.
— Морозов, ты как сказал? Прекрасно, хорошо. Ну, а за буквой «б» как называется?
Опять столбняк. Все молчали. Буква казалась мудреной.
— Ну, кто скажет? Морозов, ты
помнишь?
Я молчал, боясь промаху.
— Ну, кто?
Все смотрели на букву молчком, никто не отвечал, все забыли.
— А кто знает, чем воду таскают из колодца?
— Ведром,— сказал Игнатка.
— А буква какая?
У нас будто на язык память пала. Мы дружно ответили:
— Ве-э!
— и так дальше мы твердили.
Если нам не удавалось,
он намекал на какой-нибудь предмет, например: железо, мы отвечали «ж»...
Прошла в учении неделя,
за ней другая, скользнул месяц. Незаметно кончилась осень. Наступила зима. Мы
успели ознакомиться хорошо со стенами школы, успели привыкнуть душою ко Льву
Николаевичу...
Не прошло и трех
месяцев, а ученье у нас разгорелось во всю, в три месяца мы уже бойко читали.
Во время перерыва нам
давался час на завтрак. Тут игры и веселье, затеи, шум, крик, беготня, выходим
из дома, друг друга валим в снег, перекидываясь комками снега.
— Ну, все на меня
валяйте. Свалите или нет? — говорит Лев Николаевич.
И мы окружаем Льва Николаевича, цепляемся за него сзади и спереди, подставляя ему ноги, кидаемся в него снежками, набрасываемся на него и вскарабкиваемся ему на спину, усердно стараясь его повалить. Но он еще усердней нас и, как сильный вол, возит нас на себе. Через некоторое время от усталости, но чаще в шутку, он валится в снег. Восторг неописанный наш. Мы сейчас же начинаем его засыпать снегом и кучей наваливаемся на него, крича:
— Мала куча, мала куча.
Так часы проходили у
нас минутами. Часто бывало, когда мы его схватываем, стараемся валить, он
скажет:
— Погодите,— и сам
ляжет ниц.— Ну, бейте меня по спине кулаками.
Мы в несколько кулаков
начинаем его бить, и он только выкрикивает:
— Вот хорошо! Вот хорошо! Вот еще здесь! Еще здесь! А тут еще. Ниже, повыше.
И мы со смехом все сильнее и сильнее бьем его кулаками. Потом он встает и говорит:
— Довольно. Вот хорошо! Вот так хорошо! Но одна игра ведь не потеха. Лев Николаевич переменяет нам другую игру.
— Вы знаете что? — говорит нам
Лев Николаевич.
— Что, Лев Николаевич? — спрашиваем мы, ожидая от него какой-нибудь веселой выдумки.
— Пойдемте кататься на гору...
— А на чем кататься? Ведь салазок-то нет.
— Пойдемте. Мы разживемся.
И мы направляемся всем ополчением к сараю.
— Вот и салазки, берите. И указывает на сани.
— У, какие! Разве мы их довезем?
— А народу-то мало? Ну-те, берите дружно, тащите.— Сам
взялся за головки[4].— Разом! Дружней! Раз!
И потянул на себя. Мы
ухватываемся за кресла, за оглобли и облепляем сани, как кучка муравейника. Он
связывает оглобли, влезает в середину оглобель и вместо коренника подъемисто
везет сани через двор к горе. Смех у нас неудержимый. Мы на ходу садимся на
сани, а он все везет, влегая сильнее, словно в хомут.
Притащили сани к горе. Гора крутая. Лев Николаевич связал оглобли потуже, поднял повыше.
— Ну, валитесь! Мала куча!
И мы навалились друг на
друга. Сани направили, толканули с крутой вершины, и помчались стрелой.
На раскатах и ухабах мы
сыплемся, как картошка, барахтаясь в снегу. Лев Николаевич стоит на вершине и в
довольстве смеется...
В школе у нас было весело, занимались охотой. Но еще с большей охотой, нежели мы, занимался с нами Лев Николаевич. Так усердно занимался, что нередко оставался без завтрака. В школе вид он принимал серьезный. Требовал от нас чистоты, бережливости к учебным вещам и правдивости. Не любил, если кто из учеников допускал какие-нибудь глупые шалости.
Порядок у нас был образцовый
за все три года.
Когда же, бывало, на ученика нападал столбняк, он либо смущался или из упрямства не хотел отвечать, то Лев Николаевич просил ученика прыгать. Если ученик не хочет прыгать, Лев Николаевич его уговаривает:
— Да прыгай же, прыгай!
Либо сам берет ученика
под руки и начинает с ним прыгать, с этим учеником.
Мы подхватим его и
начинаем прыгать, как толкачи. Все расхохочутся, и столбняк с ученика спадет...
В таких радостях и
весельях и скорых успехах в учении мы так сблизились со Львом Николаевичем, как
вар с дратвой. Мы страдали без Льва Николаевича, а Лев
Николаевич без нас. Мы были неотлучны от Льва
Николаевича, и нас разделяла только одна глубокая ночь.
Школа наша росла и
росла, крепла и крепла. В учении было легко, в играх весело. Все залегло в
память, и мы отвечали на вопрос охотно.
Лев Николаевич
находился с нами почти безотлучно. В особенности он более привязался к
первоклассникам, то есть лучшим ученикам. Занятие было серьезное. Он как бы
доставал что-то глубокое в душе ученика.
Не раз мы запаздывали с
учением. Второй и третий класс бывали уже распущены по домам, а мы оставались
вечереть, так как любил Лев Николаевич по вечерам читать с нами книги. И, когда
поздно засиживались до полуночи в чтениях, рассказах и шутках, в дурную
ненастную погоду, Лев Николаевич развозил нас на своих лошадях по домам...
В 1863 году школа наша
закрылась. И ничего в жизни не было мне так трудно, как расставаться с
Яснополянской школой и нашим учителем Львом Николаевичем...
В. Морозов
КАК
Я ПОМНЮ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО И ЧЕМУ ОН МЕНЯ УЧИЛ
Воспоминания
внука
Когда умер мой дед Лев
Николаевич Толстой, мне было тринадцать лет. Я и сейчас как будто вижу его перед
собой: так ярко он мне запомнился.
Но особенно ярко
припоминаются мне его беседы со мной. Беседовал он со всеми одинаково просто и
серьезно,— говорил он и с ребятами так, как редко с ними говорят взрослые.
В течение долгого
времени я просто вспоминал о том, что он говорил мне,— мне приятно было
вспомнить о дедушке и лишний раз живо представить его себе. Но потом я вдруг
подумал: ведь все или почти все, что он говорил мне, ведь это уроки мне на
целую жизнь! Ведь все то, что он мне говорил, он говорил «с умом», желая помочь
моему воспитанию, сделать из меня настоящего человека! А если это годится мне —
мальчику шести, семи, десяти, двенадцати лет, то, значит, это может пригодиться
и другим ребятам, примерно тех же лет, а может быть, и постарше. Наверное, и для
них это тоже будет полезно!
И я решил написать
воспоминания о своем деде Льве Николаевиче Толстом, не только рассказывая все
по порядку, а делая и некоторые выводы. Эти выводы и есть те уроки жизни,
которые дал мне Лев Николаевич.
В
первый раз в своей жизни я увидел Льва Николаевича вот как: я жил в то время у
своего деда с материнской стороны Константина Александровича Рачинского в Петровском-Разумовском, где мой дед был директором
Сельскохозяйственной Академии (ныне Академия им. Тимирязева). Мне было в это
время 5 лет. Обстановка у моего деда К. А. Рачинского была довольно богатая: он
занимал директорский особняк. В верхнем этаже была его квартира, в нижнем этаже
помещалась кухня и жила прислуга.
И вот в один день мне
говорят, что «приехал твой дедушка, отец твоего папы».— «Где же он?»—спрашиваю я. В ответ слышу: «Он внизу, на кухне». Спускаюсь
вниз и вижу: Лев Николаевич сидит на кухне и беседует с нашей кухаркой. Я тогда
же почувствовал, как это удивительно! Вместо того чтобы сразу идти наверх и
беседовать с профессором Рачинским, Лев Николаевич остановился минут на двадцать поговорить с простой
женщиной, мимо которой обычно проходили, не удостаивая ее своим вниманием.
Лев Николаевич хотел
показать, что он видит в ней такого же человека, как и во всех других людях.
Окончив беседу с кухаркой и перебросившись со мной несколькими словами, Лев Николаевич
отправился наверх к К.А. Рачинскому и провел у него
час-полтора времени.
Я навсегда
запомнил Льва Николаевича таким, как я его увидел в эту мою первую встречу:
глубокие проницательные глаза, довольно худое лицо, не очень большая борода.
Одет просто, по-деревенски: в зипун; палец у него почему-то перевязан
тряпочкой. Меня, он расспрашивал преимущественно о том, во что я играю.
Какой же жизненный урок
я вынес из этой самой первой встречи с моим дедом?
В то время было резкое
разделение на бедных и богатых, бар и простых людей. И Лев Николаевич, так мне
думается, нарочно пошел на кухню разговаривать с кухаркой: он хотел показать
мне, а может быть, и моему другому деду, что ко всем людям надо относиться
одинаково, что не должно быть классового различия, что всякий труд одинаково
достоин уважения.
И для некоторых наших
ребят этот урок жизни, который мне дал в первую же нашу встречу Лев Николаевич,
может быть полезен: уважай всякого трудящегося и помни, что у нас все виды
труда пользуются одинаковым уважением.
Хочется вспомнить еще и
вот что. Мне было девять лет. Я был в это время в Ясной Поляне. Стоял чудесный
весенний день. Бродя по яснополянскому парку, я неожиданно увидел среди
озаренных солнцем больших лип стол, за которым сидел Лев Николаевич и писал. (В
это время он был уже очень старым.) В теплые летние или весенние дни он, как я
потом узнал, имел обыкновение уединяться в парке и там
работать. Я подошел к нему и поздоровался.
«Вот что, Сережа,—
сказал он мне,— ласково ответив на мое приветствие,— пойди к Илье Васильевичу и
скажи, чтобы он принес мне другое перо, это плохо пишет». Илья Васильевич
Сидорков был слугой в яснополянском доме, но Лев Николаевич называл его своим
«помощником». Илья Васильевич, как никто другой, угадывал желания Льва
Николаевича: какое ему когда нужно перо, какая бумага
и так далее. Кстати сказать, Илья Васильевич прожил до глубокой старости: он
умер в Ясной Поляне в 1940 году. Все последние годы своей жизни он показывал
дом-музей в Ясной Поляне экскурсантам. Я исполнил поручение. Илья Васильевич
сделал, что было нужно: принес другое перо и ушел. А
Лев Николаевич, оставшись наедине со мной, сказал
мне: «Вот видишь» Сережа, я кругом виноват, что мне другие люди служат, смотри,
когда ты вырастешь большой, чтобы у тебя никогда не было слуги». Хотя мне в то
время было всего девять лет, вид Льва Николаевича тогда и его голос —
негромкий, грудной — до сих пор необыкновенно ярко встают в моей памяти.
До самых последних лет
своей жизни Лев Николаевич стремился делать все сам: в яснополянском доме не
было ни водопровода, ни канализации, и Лев Николаевич сам носил воду, выносил
ведра, прибирал у себя в комнате. Правда, как старый и слабый, в самые последние
годы он пользовался услугами своего «помощника», Ильи Васильевича, но все время
старался, чтобы этого было поменьше.
И, говоря мне: «Я
кругом виноват, что мне другие люди служат, смотри, чтобы у тебя никогда не
было слуги», Лев Николаевич хотел сказать: смотри, чтобы ты не стал «барином» и
чтобы у тебя, когда ты вырастешь большой, не были в услужении другие люди, и
делай все по возможности сам!
Какой урок и для меня
тогда, и для современных ребят! Многие из тех, кто сейчас учатся, займут на
производстве, в сельском хозяйстве, на транспорте командные должности, и у них
будут подчиненные, но всегда, как бы высоко тебя ни поставил советский народ,
ты должен помнить о чутком, добром и внимательном отношении к тем, кто от тебя
зависит. Это на будущее. А сейчас надо стараться все делать самому: не
перекладывать никакой работы ни на маму, ни на сестру, ни на братишку. А если в
доме в помощь отцу и матери есть домработница, надо всегда помнить, что она не
прежняя «прислуга», быть с ней добрым и приветливым и в чем только можно
помогать ей.
Расскажу еще про один
мой разговор со Львом Николаевичем. Приехал я как-то раз, мне тогда было лет
десять, в Ясную Поляну. Встал я рано, часов в семь, и все вертелся около дома.
Вижу, выходит из дома Лев Николаевич. Он был один; одет в своей любимой простой
серой блузе, в высоких сапогах. Я к нему: «Дедушка, можно мне с тобой пойти на
прогулку?» А он отвечает: «Хорошо, Сережа, иди со мной, только молчи. Я утром,
когда гуляю, думаю, и ты мне не мешай». Как я потом узнал, Лев Николаевич
всегда утром, часов в восемь, отправлялся один на короткую прогулку, во время
которой он обдумывал и свои произведения и вообще жизнь. Я сконфузился и не
пошел со Львом Николаевичем. Я понял: не будь назойлив! У старших есть важные
дела, и ребята не должны им мешать! Да и вообще никогда никому мешать не надо.
А как узнать, когда мешаешь? Надо быть внимательным — не ждать, пока тебе
объяснят, а самому соображать. Думаю, что, как этот урок был полезен мне, так
он может быть полезен и другим ребятам.
А вот еще случай.
Приехал я в Ясную Поляну весной с новым велосипедом. Его мне только что
подарили, и я учился на нем ездить. Я страшно радовался велосипеду. Велосипед
был небольшой, подростковый. Я все время с восторгом катался на нем по Ясной
Поляне и боялся только одного, как бы он не сломался. Ведь в то время в Ясной
Поляне никаких ремонтных мастерских не было.
Как-то после обеда я
прислонил его к стене дома, а сам за чем-то на минуту отошел. И вдруг я вижу,
что Лев Николаевич подходит к велосипеду, заносит ногу и уже собирается
садиться. Я страшно испугался. Велосипед-то был маленький, а Лев Николаевич —
большой: вдруг он его сломает! Да, думаю, он и ездить-то не умеет! Потом мне
объяснили, что Лев Николаевич прекрасно умеет кататься на велосипеде. Подбегаю
я к дедушке и говорю: «Дедушка, что ты делаешь? Велосипед ведь маленький! Ты
его сломаешь!» Лев Николаевич слез с велосипеда, пристально, строго и как будто
грустно посмотрел на меня и сказал: «Ну, нельзя так, нельзя». И пошел в парк,
не прибавив ни одного слова. Как мне было стыдно тогда! Я хотел
было догнать Льва Николаевича, сказать ему: «Садись, дедушка, поезжай!». Но
как-то растерялся и остался стоять на месте.
Не надо жадничать, не
должно быть собственнических наклонностей. Пожалеешь, не дашь, а потом самому
стыдно станет. Я до сих пор вспоминаю, с каким горьким укором посмотрел на меня
тогда мой дед! Вот какой урок дал мне Лев Николаевич!
Но, пожалуй, тут есть и
еще урок: своей иронией, когда Лев Николаевич сказал: «Нельзя так, нельзя», он
проучил меня за нечуткость, за внутреннюю грубость, невнимание к людям, тем более старшим. Как я мог сказать ему: «Дедушка, что ты
делаешь?». Да еще добавить: «Ты его сломаешь!» Это было дерзостью. И как раз в
тон мне Лев Николаевич и сказал: «Нельзя так, нельзя». Словно так: захотел мною
командовать, сам же останешься в дураках.
Однажды я приехал из
Москвы в Ясную Поляну сразу после школьных экзаменов. Экзамены были первые, и я
очень волновался и нервничал. В Ясной Поляне волнение мое еще не улеглось.
Помню, я почти на спал в ту
ночь. Утром, когда все собрались пить кофе, я немного клевал носом. Вдруг
входит Лев Николаевич. Не глядя ни на кого, он вдруг обращается ко мне: «Ты, наверное,
всю ночь не спал!» И так посмотрел на меня, что мне даже немножко страшно стало.
Как он умел прочесть все по лицу!
Казалось бы, какой тут
урок! А я его тогда же понял: не нервничай, держи себя в руках! — вот что хотел
сказать Лев Николаевич. Правда, он только намекнул на это; не стал продолжать
разговора, чтобы меня не конфузить: это он сделал по деликатности. Накануне он
слышал, что я волновался насчет экзаменов, а утром по моему лицу все сразу
понял.
И этот урок полезен,
как мне кажется, ребятам. Не распускай нюни! Будь всегда тверд и стоек!
Как это ни странно,
однажды Лев Николаевич дал мне урок /в отношении спорта, а
пожалуй, и в отношении к труду.
Я играл с другими
детьми в волан. Была тогда такая игра. Надо было на особую палочку подхватить
кольцо. Я играл с большим воодушевлением. Лев Николаевич сначала смотрел на
меня с интересом и вроде как сочувственно, а потом воскликнул: «Сколько лишних
движений!». Я правда играл порывисто и немножко зря
метался из стороны в сторону. А мысль у Льва Николаевича была такая, как я ее
сейчас понимаю: «В игре: в спорте — да и в труде, пожалуй,— будь разумен, не
делай лишних движений, делай только то, что нужно,— будь рационализатором
самого себя».
И это, я думаю, очень
полезно всем ребятам: будь организованным в личной жизни, и в спорте, и в
учебе, и в дальнейшем, и это особенно важно,— на производстве.
Был один случай, когда
Лев Николаевич занимался со мной чтением вместе с другими ребятами. Один из них
был как раз сыном Ильи Васильевича Сидоркова, о котором я уже говорил. Лев
Николаевич читал вслух свои произведения и требовал, чтобы мы говорили
откровенно, что думаем о его вещах. При этом он только отдельными словами,
замечаниями подводил нас к правильному выводу, не высказывая до конца
собственного мнения. Он хотел, чтобы мы высказывались сами. Не помню точно, что
именно я говорил, но Лев Николаевич похвалил меня и сказал, что отвечал я
правильно и искренне.
А какой тут урок? Надо
не вызубривать, а по-настоящему, глубоко вникать в то, что тебе преподается, и
иметь свое собственное мнение. Некоторые думают: выучил все от первой до
последней страницы и — делу конец. Нет, надо хорошо обдумать, осмыслить
прочитанное.
Эти уроки жизни,
которые давал мне Лев Николаевич иногда намеками, а иногда и прямо, говоря все
до конца,— запомнились мне на всю жизнь. Плохо ли, хорошо ли, я старался их
осуществлять. А сейчас, мне кажется, что они могут пригодиться всем нашим
ребятам. Потому я и рассказал все это.
С.
Толстой
Источник: Толстой Л.Н. Детство.
Отрочество. Юность. / Послесловие К.Н. Ломунова.
Художник Н.А. Абакумов. - Текст
печатается по изданию: Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. - Л.: Худож. Лит., 1980. - М.:
Просвещение, 1988. - 304 с.