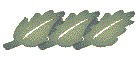
АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ
ТРИЛОГИЯ
Л. Н. ТОЛСТОГО
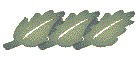
|
|
АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ
ТРИЛОГИЯ
Л. Н. ТОЛСТОГО |
|
Статья Б. Аверина
I
Сто двадцать пять лет тому
назад, в 1852 году, в журнале «Современник» была напечатана повесть «История моего
детства», подписанная инициалами Л. Н. За ними скрывался
начинающий писатель Лез Николаевич Толстой, а напечатал его первое
произведение в своем журнале обладавший безошибочным художественным вкусом
редактор «Современника» Н. А. Некрасов.
В письме к
И. С. Тургеневу от 21 октября 1852 года он писал об
авторе «Детства»: «...это талант новый и, кажется, надежный»[1].
Тургенев отвечал: «Ты прав — этот
талант надежный... Пиши к нему — и поощряй его писать. Скажи
ему, если это может его интересовать — что я его приветствую, кланяюсь и
рукоплещу ему»[2]. А
несколько позднее, в 1856 году, Н. Г. Чернышевский, сопоставляя еще только
вступающего в литературу Л. Толстого с корифеями русской литературы Пушкиным и
Лермонтовым, дает точную формулировку своеобразия творческой манеры писателя,
специфики его проникновения во внутренний мир
человека, введя сразу ставший общепринятым термин
«диалектика души».
Эти отзывы
тем более поразительны, что относятся они еще
к
очень молодому человеку — Толстой закончил «Детство», когда ему
было только двадцать четыре года, хотя
повествование в автобиографической
трилогии ведется от лица много испытавшего и
умудренного долгим жизненным опытом
человека. «Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли
для меня значение и стали смутными мечтами»,—
подобного рода высказываниями повествователя автор неоднократно прерывает рассказ, указывая
на огромную дистанцию между героем
и им самим.
Ощущению этой дистанции способствует и одна из определяющих
стилистических
особенностей трилогии. Ее художественная структура
как бы включает в
себя элемент научного исследования, подобного,
например, трактатам Руссо. Об этом
свидетельствует даже само предполагаемое заглавие всего произведения — «Четыре
эпохи развития». (Четыре потому, что по первоначальному замыслу за «Юностью», которая
была закончена в 1856 году, должна была следовать еще одна
часть —
«Молодость».) Толстой ставил своей задачей раскрыть законы
становления личности
и, разделив развитие человека на отдельные
этапы («эпохи»), точно сформулировать
характерные особенности каждого
из них.
Каждая часть трилогии Толстого имеет центральную главу, в которой как бы
суммируется все сказанное, дается выраженный в логических категориях вывод,
объясняющий как предыдущее, так и последующее повествование.
В первой части трилогии, в «Детстве»,
центральная глава так
и называется — «Детство» (соответственно во второй части,
в «Отрочестве»,
— «Отрочество», в «Юности» — «Юность»). В ней Толстой определяет основной эмоциональный
настрой «детской эпохи развития»,
раскрывает определяющую поведение героя
психологическую доминанту. Это прежде всего «невинная
веселость».
Второй характерный признак внутреннего состояния героя в главе
«Детство» — это
«беспредельная потребность к любви». Первая часть романа, по существу, и
повествует о любви Николеньки к самым различным людям — Карлу Иванычу,
maman, папа,
брату Володе, Наталье Савишне,
Катеньке, Сереже Ивину, Сонечке. Любовь к ним
имеет свои оттенки и полутона, и Толстой отметит их, но для автора
важно само наличие этой потребности как важнейшей
и определяющей человека.
«Вторая эпоха развития» резко отличается от первого периода.
Прежде
всего потому, что потребность Николеньки любить всех окружающих
людей теряет остроту и непосредственность. (В книге «Отрочество» есть даже
глава, названная «Ненависть», абсолютно невозможная в первой части.) И потому еще, что главное место в
жизни героя в это время занимает не
чувство, а разум, рассудок, логика. Теперь он часто воображает себя «великим
человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины».
Герою
Толстого в этот период открываются некоторые положения целого ряда философских
систем, которые он и пытается применить на практике. Мы видим, как Николенька
осознает и стремится использовать в повседневной жизни некоторые истины
стоицизма («счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к
ним»), эпикурейства («человек не может быть иначе счастлив, как
пользуясь настоящим и не помышляя о
будущем»), солипсизма и скептицизма («кроме меня никто и ничего не
существует»), философии Платона и буддизма
(«мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли об этом
воспоминание»). Склонность к философствованию, анализу, размышлениям,
«умствованию», безотчётная и бессознательная вера в разум — вот что, по мнению
Толстого, определяет этот период жизни.
Поэтому
сейчас более всего волнует и радует Николеньку, когда о нем отзываются как о
человеке умном. Отзывы отца («про меня папа сказал как-то, что у меня умная
рожа»), учителя, которого он ранее ненавидел («когда он
говорит, что с моими способностями, с моим умом стыдно не сделать того-то и
того-то, мне кажется даже, что я люблю его»), доставляют ему глубокое
удовлетворение.
В третьей части трилогии душевное состояние героя снова меняется. Начинается эта часть со своеобразного
«введения»: «Что я считаю началом юности» —
озаглавлено оно. Если в отрочестве, в период «умствования», Николенька размышлял о «назначении человека», о «будущей
жизни», о «бессмертии души», то теперь сфера его размышлений сужается
и на первый план выступают проблемы нравственные. Ему открывается «новый взгляд
на жизнь, ее цель и отношения». Этот новый
взгляд — теория нравственного совершенствования.
Но если ранее теории, как подчеркивается здесь, «нравились
только моему уму, а не чувству», то теперь
Николенька иногда испытывает особое состояние, когда рассудок, разум и чувство
соединяются, и идея становится внутренним
переживанием. Подобное «переживание» раскрывает Толстой в центральной
глазе третьей части книги, в «Юности», в которой Иртеньев
откроет для себя логически и одновременно
с удивительной глубиной почувствует единство человека и природы, когда
кажется, что «природа, и луна, и я, мы были одно и то же».
Но,
конечно, задача подразделять жизнь человека на отдельные периоды и научно точно
охарактеризовать каждый из них не была единственной для Толстого. Да и возможно
ли создать такую схему «эпох развития», которая была бы общей для всех людей,
даже если они принадлежат к одному историческому периоду и сословию? Одна из
причин, почему Толстой отказался от написания четвертой части романа —
«Молодости», вероятно, и заключалась в том, что если и можно было найти такую
обобщающую формулу этого периода, то
скорее всего она бы и упрощала, и схематизировала
становление личности человека.
Основная задача Толстого — автора трилогии — в том, чтобы показать, как трудно
быть добрым, искренним и правдивым, даже если
человек всеми силами души, сердца и ума
стремится к этому. Вот почему
сложный и нелегкий путь деятельного добра с его радостями
и огорчениями, взлетами и падениями, заблуждениями
и открытиями, пройденный его героем Николенькой Иртеньевым,
стал важным и необходимым нравственным уроком
для нескольких поколений читателей.
В трилогии Толстой ставит очень важный для него вопрос: может
ли мысль, разум,
сознание обуздать дурные склонности человека, сделать его поступки и
поведение нравственными, моральными? Или
и разум направляет человека на ложную дорогу — так же, как его
«плотские инстинкты» или требования общества?
Однозначного ответа Толстой не
дает. Это для него проблема, во многом определяющая художественную структуру
трилогии. И особенно остро ставится она в связи с теорией
самосовершенствования.
На границе отрочества и юности Николенька знакомится с Дмитрием Нехлюдовым и
«невольно усваивает его направление, сущность
которого составляло восторженное
обожание идеала добродетели
и убеждение в назначении человека постоянно
совершенствоваться».
Из этой формулировки пока совсем не ясно, как же, каким
путем нужно постоянно совершенствоваться, ибо «восторженное обожание идеала добродетели» — это
скорее некое состояние, чем практическое усвоение способа совершенствования.
Как справедливо писала Е. Н. Купреянова, «в качестве этической
и эстетической идеи
идея нравственного самосовершенствования не содержит в себе ничего ложного»[3].
Действительно, плох тот человек, который не видит своих недостатков и не
старается их исправить, одновременно развивая лучшие стороны своей натуры. Так считалось
всегда,
и история существования этой идеи в той или иной форме насчитывает много веков.
Самоанализ, самонаблюдение, постоянная работа над самим собой и для Нехлюдова,
и для Иртеньева становится
одним из важнейших
средств морального совершенствования. С ним
тесно связывалось у них и другое правило.
Николенька открыл в человеке
такую особенность: человеку часто приходят в голову «гадкие
и подлые» мысли, в которых ему стыдно признаваться
другому, и потому они всегда так и остаются в его душе невысказанными.
А что, решает Дмитрий Нехлюдов, если всегда
эти «гадкие и подлые» мысли сообщать друг другу, тогда «они никогда не
смогли бы заходить к нам в голову». И друзья впредь намерены именно так и
поступать. Чтобы прийти к нравственному самосовершенствованию, они решают также
установить незыблемые правила поведения и строго следовать
им, отмечая и анализируя всякое отклонение от них.
Необходимым условием
самосовершенствования, конечно, считалось у Иртеньева
и Нехлюдова стремление жертвовать собой ради счастья других.
Такова стройная теория, выработанная Иртеньевым
и Нехлюдовым, все звенья
которой, казалось бы, тесно пригнаны и вполне логично связаны друг с другом.
Но все повествование в трилогии показывает, как эти правила, соприкоснувшись с
реальной жизнью, дают совсем не те результаты, к которым они должны были бы
приводить. Например, постоянный анализ чувств, переживаний, пристальное изучение
движений собственной души, оказывается, убивает непосредственность
мировосприятия, то есть существенно обедняет личность
человека. Так, еще в раннем детстве, прощаясь с матерью перед отъездом
в Москву, Николенька, обняв ее, «плакал, ни о чем не думая, кроме своего
горя». Но вот он начинает размышлять о своем переживании, и его искреннее горе
исчезает, заменяясь противоположным и в этой ситуации уже неестественным и
самодовольным чувством: «Я продолжал плакать, и мысль, что слезы мои доказывают
мою чувствительность, доставляла мне удовольствие и отраду». То же самое произошло и на панихиде по умершей матери: «...то
желание показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии, которое я
произвожу на других», то какое-то наслаждение от сознания, «что я несчастлив», —
все это привело к тому, что «печаль моя была неискренна и неестественна»,— подчеркивает Толстой. Закономерен и обобщающий грустный вывод:
«Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме
изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному
моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка».
То же самое происходит и с
выработкой правил морального поведения. Толстой показывает, как, составляя их для себя, Николенька неосознанно
и незаметно моральное совершенствование подменяет совершенствованием вообще, которое становится средством возвыситься над
другими людьми.
Николенька решает из двадцати пяти рублей,
получаемых им ежемесячно,
одну десятую отдавать бедным («прекрасно!» — как бы слышится здесь комментарий
повествователя), у него теперь будет особая комната, которую он станет сам (!)
убирать и держать в удивительной чистоте («очень хорошо!»), будет каждый день
(!) ходить в университет пешком, а если ему дадут дрожки, то он продаст их и
деньги тоже отложит для бедных («великолепно!»), он начнет прекрасно учиться, «так что
восемнадцати лет кончу курс первым кандидатом с двумя золотыми медалями, потом
выдержу на магистра, на доктора и сделаюсь первым ученым в России...
даже в Европе» (но ведь последнее уже
никакого отношения к нравственному совершенствованию не
имеет!). Почувствовав это сам, Николенька снова
возвращается к правилам нравственности и решает «делать нарочно
движенья как можно больше, гимнастику каждый
день» (в здоровом теле — здоровый дух!), но снова его мысль устремляется
в сторону, противоположную нравственным принципам,— «так что, когда мне будет
двадцать пять лет, я буду сильней Раппо». Вот один из
примеров тончайшей диалектики мыслей и
чувств, раскрываемой Толстым, так как здесь правила нравственного
самосовершенствования переходят в свою противоположность, уступая место тщеславию, стремлению стать выше других
людей.
Обратилось
в свою противоположность и правило абсолютной взаимной откровенности. Вместо
того чтобы еще теснее связать друзей и способствовать взаимному
совершенствованию, оно стало причиной неестественных отношений между ними,
порождало раздражение и неприязнь. Тому,
как это внешне разумное и прекрасное правило становилось обоюдоострым
оружием, особенно при размолвке или во время
ссоры, Толстой посвящает специальную главу, названную «Дружба с
Нехлюдовым», но которую вернее было бы назвать «Ссора
с Нехлюдовым». И заканчивается она следующим выводом автора-повествователя:
«Мы доходили иногда в увлечении откровенностью до самых
бесстыдных признаний, выдавая, к своему стыду, предположение, мечту за желание и чувство... и эти признания
не только не стягивали
больше связь, соединявшую нас, но сушили самое чувство и разъединяли
нас... и мы в жару спора воспользовались теми оружия-ми, которые прежде сами дали друг другу и которые поражали ужасно
больно».
Вслед за
этой главой идет глава «Мачеха». При всем отсутствии
внешней, сюжетной связи между ними они глубоко связаны внутренне, тематически.
В главе «Мачеха» рассказывается об отношениях между
отцом Николеньки и его новой женой. Их связывает взаимная любовь,
и это писатель специально подчеркивает: «Она любила своего мужа более всего на
свете, и муж любил ее». Свое отношение к мужу, подчеркивая тем самым глубину своей любви, Авдотья
Васильевна решила построить на самопожертвовании, то есть па том, что
составляло и столь существенную часть теории самосовершенствования
Иртеньева и Нехлюдова. Авдотья
Васильевна любила наряды, но «жертвовала своей страстью к нарядам» для своего
мужа. Отец Иртеньева хотел, чтобы
его жена стала полноправной хозяйкой в доме, но «Авдотья
Васильевна жертвовала собой и считала необходимым оказывать настоящей
хозяйке дома (курсив Л. Толстого.— Б. А.), как она
называла Любочку,
неприличное уважение». Иртеньев-старший много играл
в карты, однако не хотел смешивать игру с семейной жизнью,
но «Авдотья Васильевна
жертвовала собой и, иногда больная, под конец зимы даже беременная, считала
своей обязанностью... хоть в четыре или пять утра, раскачиваясь, идти
навстречу папа, когда он, усталый, проигравшийся, пристыженный... возвращался
из клуба». Итог их отношений так же печален, как и результат применения
правила откровенности между Иртеньевым и Нехлюдовым,
и в конце главы звучит столь же грустный вывод, как и в главе «Дружба с Нехлюдовым»:
«Вследствие этих и многих других беспрестанных жертв в
обращении папа с его женою в последние месяцы... стало уже заметно
перемежающееся чувство тихой ненависти» (курсив Л. Толстого. —
Б. А.).
Сам Ннколенька только в мечтах жертвовал собою,
и поэтому его поведение не является проверкой этого важного пункта теории
самосовершенствования. Но его друг Нехлюдов действительно свои отношения с
близкими построил на самопожертвовании. Он убедил себя в
любви к Любови Сергеевне, так как она была некрасива и несчастна, но эта,
скорее рассудочная, чем сердечная, привязанность не принесла радости ни ему
самому, ни Любови Сергеевне. Стремлением к самопожертвованию объяснялась и его
дружба с Безобедовым, хуже которого «на вид не было
студента во всем университете». Искреннее желание Нехлюдова делать добро
другим, жертвуя собой, было тесно связано с тщеславием, со стремлением, чтобы
окружающие увидели его непохожесть, необычность, высоту его нравственных
принципов.
Таким образом, все основные положения теории совершенствования при
соприкосновении с действительностью оказывались внутренне противоречивыми, и
исполнение их приводило к прямо противоположным результатам, чем те, ради
которых они были созданы. Значит, по мнению Толстого, и разум лжет человеку?
«Зачем все так прекрасно, ясно у меня на душе, — спрашивает Николенька, как бы
подтверждая этот вывод, — и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни,
когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю?» Действительно,
период, когда Николенька занялся нравственным самосовершенствованием, не стал
самым нравственным в его жизни. Но однозначного ответа на этот вопрос Толстой в
своей трилогии все-таки не дает. «Часто теперь я спрашиваю себя, — подчеркивает
повествователь, — когда я был лучше и правее — тогда ли, когда верил во
всемогущество ума человеческого, или теперь, когда, потеряв силу развития,
сомневаюсь в силе и значении ума человеческого? — и не могу себе дать
положительного ответа». Для Толстого ясно в этот период одно: важнейшая и
абсолютно истинная особенность человека — это его
стремление к нравственному совершенствованию, столь глубоко захватившее
Николеньку. Но даже и оно часто принимает ложное направление, особенно когда
человек пытается построить нравственность на излишне
логизированных, рациональных началах и собственные,
искренние, идущие от души и сердца влечения подчиняет логике, рассудку, четко
расчерченным правилам и постулатам, тем самым обедняя
и искажая самого себя.
II
В своей знаменитой статье о
творчестве Толстого Н. Г. Чернышевский справедливо подчеркивал: «Относительно «Детства» и «Отрочества» очевидно
каждому, что без непорочности нравственного чувства невозможно было бы не только исполнить эти повести, на
и задумать их». Но как конкретно проявилась в
произведении Толстого эта непосредственность, чистота и непорочность
нравственного чувства?
Может быть, в той «беспредельной потребности любви», которую
так глубоко и
искренне переживает Николенька в детстве? Но ведь это только в детстве, а в
юности и отрочестве внутреннее состояние Николеньки меняется. Может быть, она проявилась
в теории нравственного совершенствования,
ставшей важнейшим открытием героя? Но, как уже было показано, эта теория не
привела Николеньку к сколько-нибудь ощутимым результатам. Или нравственные
уроки могут быть выведены из размышлений героя и автора-повествователя о добре
и зле, о правде и истине, о любви и дружбе? Все это
вместе взятое, конечно, способствует созданию впечатления о чистоте
нравственного чувства героя и автора произведения, но главное кроется все-таки
в другом.
Почти
одновременно со статьей о Толстом Н. Г. Чернышевский
писал большую работу «Очерки гоголевского периода русской литературы»,
где приводил обширный отрывок из статьи В. Г. Белинского
о «Герое нашего времени», в котором содержится
характеристика Печорина. «Вы предаете его анафеме,— писал Белинский, обращаясь
к «строгим моралистам»,— не за
пороки... но за ту смелую свободу, за ту желчную откровенность, с
которою он говорит о них... Но этому человеку
нечего бояться: в нем есть тайное сознание, что он не то, чем самому
себе кажется, и что он есть только в настоящую минуту... Его
страсти — бури, очищающие сферу духа, его
заблуждения, как ни страшны они, —
острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на
долгую и здоровую жизнь... Настанет торжественная
минута, и противоречие разрешится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются в один гармонический аккорд»[4].
Комментируя весь отрывок, небольшая часть которого здесь приведена, Н. Г.
Чернышевский писал, что Белинский хорошо сознавал, «что с развитием соединены
свои опасности, как соединены они со всеми вещами
на свете; все-таки эти опасности, по его мнению, вовсе не так страшны,
как та нравственная порча, которая бывает
необходимым следствием неподвижности; притом же они с неизмеримым избытком
вознаграждаются положительными благами, какие дает развитие»[5].
Николенька Иртеньев — не Печорин, нет
необходимости и доказывать
это. Но в характеристике Белинским Печорина и в комментарии к ней
Чернышевского, на наш взгляд, содержится ответ на вопрос, что
есть «непорочность нравственного чувства». Это
«смелая свобода» и пронзительная откровенность, с которой сам Николенька
в детстве, отрочестве и юности — и вместе с
ним и осмысляющий «эпохи развития»
личности автор-повествователь — судит и анализирует свои кажущиеся или действительные недостатки.
Это и «тайное сознание» героя, что
в нем есть нечто большее, чем то, каким он предстает в той или
иной конкретной ситуации. Вспомним, например, конец главы «Юность»,
где герой говорит о себе, что он «ничтожный червяк, уже оскверненный всеми
мелкими, бедными людскими страстями», и тут же добавляет: «...но со всей
необъятной могучей силой воображения и
любви», ибо сила любви и воображения есть главное содержание его личности. Это
и общее впечатление, которое остается после прочтения трилогии, что все
ошибки и заблуждения Николеньки — «острые болезни
в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь». И, может быть,
самое главное — постоянное стремление героя понять, осознать и изменить
самого себя, непрерывный духовный поиск, то
есть то движение личности, которое при всех трудностях
и опасностях на своем пути является, как
подчеркивает Чернышевский, надежным средством против «нравственной порчи,
которая бывает необходимым следствием неподвижности». И когда в
последней главе книги Толстого Иртеньев говорит: «Я
заплакал, но уже не слезами отчаяния.
Оправившись, я решился снова писать правила жизни и твердо
был убежден, что я уже никогда
не буду делать ничего дурного, ни одной минуты не проведу праздно и никогда не
изменю своим правилам», — то читатель, безусловно, верит в победу Николеньки
над самим собой. Верит, несмотря на то, что Толстой в своей книге чаще всего
анализирует «трудности и опасности» развития и становления личности, в
изображении которых «чистота нравственного чувства»
проявляется не в меньшей степени, чем в нравственных победах
Иртеньева.
«Ни в детстве, ни в отрочестве, ни потом, в более зрелом возрасте,
я не замечал за собой порока лжи; напротив, я скорее был слишком правдив и
откровенен...»,— говорит о себе Иртеньев, но
парадокс, требующий объяснения, заключается в том, что Николенька часто или
говорит неправду, или совершает поступка, не всегда согласующиеся с правдой. Хотя само понятие неправда, ложь по
отношению к Николеньке может употребляться с одним, но очень важным ограничением.
Обычно ложью называют преднамеренное искажение истины. Причем за этой
преднамеренностью нередко скрывается то или иное корыстное побуждение.
Николенька часто и по самым различным поводам искажает истину, но никогда за
этим не скрывается никакой корысти.
В детстве
основной причиной, толкающей Николеньку к отклонению от правды, были его
доброта, отзывчивость, совестливость. Так, в самом начале трилогии, в
знаменитом эпизоде пробуждения, рассказывается, как Николенька рассердился на
Карла Иваныча и мысленно назвал его противным. Затем,
чувствуя свою неправоту и раскаиваясь,
Николенька скроет истинную причину своих слез и на вопрос своего
наставника, отчего он плакал, скажет неправду, будто он видел во сне, как
умерла его мать. Во второй главе эта выдумка снова повторяется. Николенька
говорит своей матери, что плакал во сне, опять умалчивая о своих действительных
мыслях и переживаниях. Строго говоря, в этой неправде больше продиктованной
добротой правоты, чем если бы Николенька сказал и
Карлу Иванычу, и матери о своем очень
кратковременном неприязненном чувстве к глубоко и искренне любимому им
наставнику. Но Толстого интересует и другая сторона этого события. В третьей
главе выдумка Николеньки как бы становится реальностью. «Так вот что предвещал
мой сон»,— думает Николенька, связав его с предстоящим переездом в Москву,
хотя в действительности никакого сна не было.
Так, с первых страниц книги Толстой показывает, как даже невинная выдумка, раз возникнув и войдя в жизнь
человека, в дальнейшем получает все права истины и действительности, определяя
его мысли, поступки, поведение, и
разграничить, где ложь, а где правда, становится уже почти невозможно.
Формы
взаимоотношений между людьми, по мнению Толстого, настолько искажены, что
только ребенок может иногда почувствовать неправду там, где взрослые уже не
способны ее увидеть. Вот характерный пример. Сочиняя стихи к именинам бабушки,
Николенька заканчивает свое поздравление следующими строками: «Стараться будем
уважать и любим, как родную мать», — а затем остро
чувствует, что написал неправду, так как его любовь к матери несравнима с любовью
к бабушке. Он ожидает, что его фальшь будет сразу же раскрыта, его обвинят в
неискренности и накажут. Но его опасения оказались
совершенно напрасными: никто не увидел фальши в поздравлении Николеньки, и его стихи вызвали всеобщую похвалу.
Уже в первой части трилогии Толстой укажет на многие поводы, мотивы,
причины, побуждающие Николеньку говорить неправду или
неестественно вести
себя. Причем очень часто удивительно естественной выглядит сама эта
неестественность, так как иногда в основе ее
лежит вполне обычное для маленького
мальчика стремление казаться
взрослее и старше. Вот Николеньке приносят новый
взрослый костюм, и как
непосредственно и искренне он выдает ложь за действительность: «Хотя мне было очень узко и неловко в
новом платье, я скрыл это от всех,
сказал, что, напротив, мне очень покойно и что ежели
есть недостаток в этом платье, так только тот, что оно немножко
просторно».
В приведенном случае «потери» несет прежде
всего сам Николенька. Но часто его ложь задевает и других людей, и, при всей внешней
естественности и
непосредственности, она не так уж безобидна. Вот на
балу Николенька
знакомится с Сонечкой. Он чувствует к ней неподдельную, искреннюю симпатию и потому
хочет развлечь ее, показав
себя веселым и остроумным.
Однако это в основе своей естественное
и вполне понятное стремление опять-таки почти
независимо от его воли, по какому-то неизбежному закону, не подчиниться
которому, кажется, невозможно, влечет за собой ложь. Рассказывая Сонечке
о своем воспитателе,
Николенька «распространился, даже несколько
иронически, о самой особе Карла Иваныча,
о том, какой он бывает смешной, когда снимает
красную шапочку, и о том, как он раз в зеленой бекеше упал с лошади — прямо в лужу, и т. п.»
Даже доброе, светлое чувство героя, оказывается, влечет за собой фальшь,
но «непорочность нравственного чувства» героя в том и проявляется, что сам
Николенька осознает всю ненужность этого искажения действительности, с удивлением
задавая вопрос: «Все это было
очень хорошо; но зачем я с насмешкой отзывался о Карле
Иваныче?
Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы я
описал ей его с теми любовью
и уважением, которые я к нему чувствовал?»
Но одну из основных причин лжи Толстой выделяет особо. Это — тщеславие.
Оно властвует над героем трилогии, особенно в юности, во
многом определяя его
поступки, которые иногда становятся просто
жестокими, вопреки его доброй и отзывчивой
натуре.
Вот Николенька по указанию своего отца едет наносить визиты
людям богаче и знатнее, чем семья
Иртеньевых, хотя и делает это
с внутренним неудовольствием. В то время как Николенька готовится
к визитам, ему самому наносит визит
Иленька Грап с отцом,
стоящие ниже
Иртеньевых по общественной лестнице. Отец
Иленьки просит, чтобы его сын побыл один день в семье
Иртеньевых, но Николенька
холодно отвечает отказом. Чувствуя одновременно и
досаду, и укоры совести из-за своего отказа,
Николеныса пытается доказать собственную правоту,
тщеславно подчеркивая, что «должен быть у князя Ивана Иваныча, у княгини
Корнаковой, у Ивина, того самого, что имеет такое
важное место», «у княгини Нехлюдовой» (курсив Л. Н. Толстого. -
Б.А.).
Подсказанная
тщеславием ложь Иртеньева не очень велика, он
просто поставил себя в один ряд с людьми, от
которых в действительности его отделяла довольно существенная дистанция,
но сколько жестокости
в этой едва заметной лжи и как глубоко оскорбил он стоящих ниже себя
Иленьку и его отца.
То же самое тщеславие заставляет Иртеньева
самыми различными
способами доказывать свою самостоятельность, независимость от общепринятых мнений и
всячески подчеркивать свою оригинальность.
Но чем более оригинальным стремится быть
Николенька, тем менее
оригинальны и самостоятельны его взгляды, мнения и
поступки, и тем
очевиднее ложь и хвастовство, с помощью которых он подчеркивает
свою необычность.
В последней части трилогии есть глава, где рассказывается о посещении
Иртеньевым семьи его друга Нехлюдова, которая имеет ироническое заглавие «Я
показываюсь с самой выгодной стороны». Еще
в самом начале знакомства с Нехлюдовыми
Иртеньев, следуя избранному им правилу «даже на самый
простой вопрос отвечать непременно
очень умно и оригинально (курсив Л. Н. Толстого.— Б. А) и
считая величайшим
стыдом короткие и ясные ответы», на предложенный хозяйкой вопрос, не скучно ли
ему слушать чтение книги, начатое до его
приезда, конечно же
дает самый неестественный и не соответствующий
действительности, но, с его точки
зрения, оригинальный ответ. Он говорит, что больше любит «читать книги из
середины, чем сначала»,
так как это «вдвое интересней: догадываешься о том, что
было и что
будет». На следующий элементарный вопрос, когда он собирается уезжать,
Иртеньев снова ответит неправду, сказав, что, может быть,
уедет завтра, а
может быть, пробудет еще довольно долго, хотя точно
знает, что уедет
завтра.
В главе же «Я показываюсь с
самой выгодной стороны», рассказывающей
о продолжении знакомства Иртеньева с Нехлюдовыми
Николенька сочиняет уже совсем ни с чем не
сообразную ложь, характеризующую
его, конечно, с самой невыгодной стороны. «Когда зашел разговор о дачах, — вспоминает
Иртеньев, — я вдруг рассказал,
что у князя Ивана Иваныча
есть такая дача около Москвы, что на
нее приезжали смотреть из Лондона и из Парижа, что там есть решетка, которая стоит триста восемьдесят тысяч, и что
князь Иван Иваныч мне очень близкий родственник, и я
нынче у него обедал, и он звал меня
непременно приехать к
нему на эту дачу жить с ним целое лето, но что я отказался...» и так
далее.
Толстой
подробно комментирует этот эпизод, подчеркивая, что «тщеславное желание
выказать себя совсем другим человеком, чем есть, соединенное с несбыточною в
жизни надеждою лгать, не быв уличенным», было главной
причиной его «отчаянной» лжи.
В статье о
пьесе Л. Толстого «Власть тьмы» Г. А. Бялый анализирует
монолог ее героя Митрича, который говорит, в
частности, что он не боится никого, потому что не врет и не хвастает, ибо, как
«начал ты хвастать, сейчас ты и заробеешь».
Смысл этого не очень ясного высказывания Митрича
Г. А. Бялый видит в следующем: как только человек
начинает хвастать с целью снискать успех и признание у
людей, то неминуемо «попадает к ним в зависимость, начинает «робеть»
перед ними»[6].
Тщеславие и хвастовство Иртеньгва и
тесно с ним связанную зависимость его как от общепринятых норм поведения,
обычаев, нравственных принципов, так и от конкретных носителей этих традиций и
форм, особенно глубоко и тщательно анализирует Толстой в тот период, когда его
герой целью своей жизни станет считать задачу быть
comme
il
faut, то есть порядочным, благовоспитанным
человеком. Теперь
определяющее значение для него имеют форма ногтей, умение кланяться и
танцевать, «отношение сапог к панталонам» и так далее. Все это было для него не
только «важной заслугой, прекрасным качеством,
совершенством», «но это было необходимое условие жизни, без которого не могло
быть ни счастия, ни славы, ничего хорошего на свете»,
— подчеркивает Л. Толстой. Соответственно в зависимость он попадает
теперь, в частности, к Дубкову, забывая о том, что всегда считал
его лживым человеком.
Дубков для Иртеньева становится образцом для подражания, и
именно к нему он обратится по такому важному вопросу, как способ достижения
соответствующей
comme
il
faut формы ногтей.
Уже здесь
Толстой стремится показать алогизм сложившихся отношений между людьми, когда все
то, что должно быть внешним, второстепенным, властно оттесняет собой истинное,
сущностное содержание
человеческой жизни. Причем процесс этот настолько глубок,
а замена истинного ложным, по мнению Толстого, столь
всеобъемлюща, что сознание человека чаще всего уже не улавливает произошедшей
перемены понятий, и поэтому его герой часто делает открытия, действительно
имеющие все права истины, не замечая, что справедливы они только для той
ложной системы отношений, которая властвует над ним. И
тем более всемогущим выглядит этот процесс, подчиняющий
себе Иртеньева, чем настойчивее указывает Толстой на
доброту и искренность своего героя, для которого
следование принципам
«благовоспитанного человека» являлось одним из способов приближения к гармонически развитому человеку. То есть и здесь в искаженной форме проявляется непорочность его
нравственного чувства.
Глубоко спрятанная, не различимая простым взглядом ложь как
окружающей Николеньку
среды, так и его собственных мнений и поступков, часто выявляется Толстым благодаря
тому, что события
в трилогии вдруг начинают высвечиваться через сознание, постороннее
герою.
Достигается это Толстым, как уже говорилось, с помощью неожиданной смены точек
зрения, перехода от изображения мира через сознание, особенности которого уже ясны
или предугадываются читателем, к сознанию, чуждому данной среде и данному способу
мышления.
Подобная точка зрения проявляется иногда только в одном слове,
резко выпадающем из
речи автора-повествователя. В главе «Охота»
дети видят телегу со съестными припасами для
завтрака на траве. Автор-повествователь сопровождает это следующим
комментарием: «При виде телеги мы изъявили шумную радость, потому что пить чай
в лесу на траве, и
вообще на таком месте, на котором никто и никогда
не пивал чаю, считалось
большим наслаждением». Вот в этом слове
«считалось» уже сказывается наличие другого
сознания, другого взгляда на мир, для которого времяпрепровождение
Иртеньевых — нечто
выдуманное, неестественное, выпадающее из
нормального течения жизни. Что, однако, не исключает искреннего,
заинтересованного и непосредственного переживания этих искусственных форм, о
чем и свидетельствует
«шумная радость» младших Иртеньевых.
Позднее, когда, начитавшись романов,
Николенька гуляет по полям и лесам, «воображая себя то полководцем, то министром,
то силачом
необыкновенным», он, встречаясь с крестьянами, занятыми работой, испытывает
«бессознательное сильное смущение» и старается
сделать так, чтобы крестьяне его не
заметили. Причина бессознательного сильного смущения Николеньки в том, что он
ощущает возможность
иной точки зрения на самого себя, по отношению к которой его
возвышенно-восторженное состояние — пустая и надуманная романтическая мечтательность, не идущая ни в какое
сравнение с серьезным и жизненно необходимым крестьянским трудом. Снова
подчеркнем,
что это не означает для Толстого отсутствия в переживаниях Николеньки поэзии,
глубины и искренности.
Точно так же вполне искренен порыв героя трилогии, когда, забыв
сообщить духовнику
один из своих грехов, он рано утром едет к нему
исповедоваться вторично. Сделав это,
Николенька умиляется и гордится своим поступком, убеждает себя, что «такого
прекрасного молодого человека, как я, другого нет на свете», и в «назидание» рассказывает старику
извозчику о причинах своей утренней поездки, но
получает неожиданный ответ: «А что,
барин, ваше дело господское».
Только однажды в трилогии Толстого простой человек прямо и
непосредственно
оценивает поведение героя, и эта оценка далека от одобрения. Искреннее
движение души Николеньки было заглушено тщеславием и самодовольством, всегда, по мнению
Толстого, связанным
со стремлением поучать и наставлять. Старик
извозчик верно почувствовал это и выразил свое понимание
настроения Николеньки в равнодушно-пренебрежительном ответе.
Сложный лабиринт лжи, сквозь который проводит Толстой своего
героя, уже сам по себе
представляет детальное исследование современного Толстому человека и общества. В то же
время в трилогии нет осуждающей по отношению
к ее главному герою интонации. Неправда в мыслях и поступках Николеньки — это во многом «болезнь роста» личности, указывающая на сложность жизни и
взаимоотношений между людьми. Иное
дело многочисленные персонажи, окружающие главного героя. Каждый из них
— это особая, не схожая с другими статья в
художественном исследовании Толстого.
Вот отец Николеньки. Движимый гордостью и «тайной
досадой на то, что в наш век он не мог
иметь ни того влияния, ни тех успехов,
которые
имел в свой», он удачно играет роль благополучного и всем
довольного человека, благодаря чему, не быв никогда
человеком большого света, он всегда
водился с людьми этого круга и был ими уважаем. Созданный им самим
образ оттеснил его реальное внутреннее
содержание, а талантливое исполнение роли
стало его второй натурой.
Княгиня Корнакова элементарно лжива, и потому
ее образ не требует углубленного психологического анализа — достаточно таких деталей портрета: «сухая и
желчная, с серо-зелеными неприятными глазками, выражение которых явно
противоречило неестественно-умильно
сложенному ротику».
Гораздо
более сложен князь Иван Иваныч. Правда и ложь, искренность и фальшь, естественность и игра
органически соединились в его
облике. Поэтому и характеристика его целиком построена на
противительной интонации с использованием союзов
«но», «хотя», «несмотря на». Князь, подчеркивает
Толстой, «был небольшого ума, но
благодаря такому положению, которое позволяло ему
свысока смотреть на все тщеславные
треволнения жизни, образ мыслей его был
возвышенный». Он был хорошо образован и начитан,
указывает автор, однако за этим утверждением
следуют сразу три «но»: «по образование его остановилось на том,
что он приобрел в молодости», «но не
имел никакого понятия ни о математике, дальше арифметики, ни
о физике, ни о современной литературе: он мог в
разговоре прилично умолчать или
сказать несколько общих фраз о Гете, Шиллере, Байроне, но никогда
не читал их». Но, пожалуй, самое парадоксальное в его
облике то, что, занимая очень высокое и
независимое положение в свете, он тем не менее
зависит от него, вследствие чего привлекательные
качества его натуры, искажаясь, переходят в свою противоположность. «Он
был добр и чувствителен, — подчеркивает Толстой, — но холоден и
несколько надменен в обращении», так как своею холодностью он пытался оградить
себя от беспрерывных просьб людей, которым в силу своего высокого положения он
мог быть полезен.
И даже
некоторые герои, которых Толстой описывает с нескрываемой симпатией, не лишены
этого недостатка. Так, добрый, сердечный, отзывчивый Карл Иваныч
создает себе легендарную биографию, где правда и выдумка причудливо
перемешаны. Эта легенда необходима ему, чтобы уважать самого
себя, сочувствовать себе, гордиться необычностью своей судьбы. То есть и он не
лишен тщеславия, столь властно толкающего героев трилогии ко лжи и фальши.
Создавая
ситуации, в которых герои трилогии сталкиваются друг
с другом, Толстой преследует ту же цель — показать, сколь легко ложь
заменяет
истину, приобретая все ее права.
Во второй части трилогии есть
глава «Дробь». В событиях, изображенных в ней, Николенька, по существу, никакого участия не принимает,
но принцип построения ее сюжета тот же самый, что и во всей трилогии.
Начинается она юмористической сценкой, рассказывающей, как, повинуясь
непосредственному движению души, горничная Мими,
принявшая дробь за порох, «спасает» дом и его обитателей от пожара
и гибели: «И с неописанным выражением твердости
духа Мими приказала всем посторониться,
большими, решительными шагами подошла к рассыпанной дроби и, презирая
опасность, могущую произойти от неожиданного взрыва, начала топтать ее ногами».
Затем юмористический тон незаметно сменяется сатирическим
в сцене разговора бабушки, отца Николеньки и горничной Гаши,
а заканчивается глава уже на трагической ноте. Мими
сильно недолюбливала Карла Иваныча и пожаловалась
бабушке на то, что дети играют с порохом. Бабушка вызвала отца для объяснений,
и он, увидев дробь, по ошибке принятую за порох, «не мог не улыбнуться» и
попытался объяснить, что дробь совсем не опасна. Однако, быстро поняв,
что правда совсем не нужна и но интересна бабушке, тут же
принял ее сторону и, изменив тон, строго обратился к детям: «Где вы это взяли?
и как смеете шалить такими вещами?» Так ложь заменила истину, дробь
превратилась в порох, а через два дня добрейший Карл Иваныч
уступил место молодому щеголю-французу.
Но есть в
трилогии и персонажи, искренность и правдивость которых
вне всякого сомнения. Это и юродивый Гриша, и студенты-разночинцы, и — особенно — Наталья
Савишна. Искренность ее отношения к матери
Иртеньева специально подчеркивается противопоставлением
двух сцен. Уже говорилось, что в своем поздравлении бабушке Николенька написал,
что любит ее как родную мать, почувствовав, однако, что солгал. Когда,
потрясенная смертью матери Николеньки, Наталья Савишна
задает вопрос: «Что мне теперь здесь осталось? для кого мне жить? кого
любить?», Николенька с упреком и едва сдерживая слезы
спросит: «А нас разве вы не любите?» Наталья Савишна,
в отличие от Николеньки, не покривит душой и не сравнит свою любовь к Наталье
Николаевне с любовью к ее детям. «Богу известно, как я вас люблю, моих
голубчиков, — ответит она, — но уж так любить, как я ее любила, никого не
любила, да и не могу любить».
Наталье Савишне удается всегда и во всех
ситуациях быть абсолютно правдивой, так как она по собственной воле отъединялась
от окружающих ее людей, ибо полагала, что «в ее положении экономки,
пользующейся доверенностью своих господ и имеющей на руках столько сундуков со
всяким добром, дружба с кем-нибудь непременно повела бы ее к лицеприятию и
преступной снисходительности; поэтому... она удалялась всех и говорила, что у нее в доме нет ни
кумовьев, ни сватов». И потому она так одинока. Незадолго до смерти, в минуты
слабости, когда, как подчеркивает Толстой, «лучшее утешение для человека
доставляют слезы и участие живого существа, она клала себе на постель свою
собачонку моську... говорила с ней и тихо плакала, лаская ее».
Тема лжи,
занимающая немалое место в трилогии, трагические сцены и эпизоды, грустные
размышления повествователя тем не менее не заглушают
основного эмоционального тона книги — светлой поэзии детства и воспоминаний о
детстве, поэзии раскрывающейся души и мира, познаваемого ребенком и юношей.
Толстой,
как никто в мировой литературе, умел видеть ложь там, где люди уже утратили
способность различать ее, и писать о ней с огромной силой неприятия. Но,
глубоко видя ложь, он искал не ее, а правду. Этот поиск правды начался у
Толстого с его первого произведения, в котором, в той или иной степени,
затронуты все основные темы и проблемы, волновавшие его на протяжении всего
творчества, и не прекращался в течение многих десятилетий, до последнего дня
жизни.
Б. Аверин
Источник: Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Вступ. статья Б. Аверина;
Худож. Л. Селизаров. - Л.:
Худож. лит., 1978. - 368 с.
[1] Некрасов
Н. А. Полн. собр. соч. в 12-ти т., т. 7.
М., 1950, с. 176.
[2] Тургенев
И. С. Поли. собр. соч. и
писем в 28-ми т. Письма, т. 2. М-Л., 1961, с. 79.
[3] Купреянова Е. Н. Эстетика Л. Н. Толстого. М. - Л., 1966,
с. 4.
[4] Чернышевский Н. Г. Полн.
собр. соч. в 15-ти т., т. 3. М., 1947, с. 241.
[5] Чернышевский Н. Г.
Полн. собр. соч. в 15-ти т., т. 3. М., 1947, с. 243.
[6] Бялый Г.А.
Русский реализм конца XIX
века. ЛГУ, 1973, с. 84.