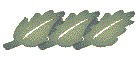|
|
ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО
И ЮНОСТЬ В ИЗОБРАЖЕНИИ
Л. Н. ТОЛСТОГО |
|
Статья Б. Аверина
I
Удивительно
обыденно и прозаично начинается трилогия Льва Николаевича Толстого «Детство.
Отрочество. Юность». Николенька Иртеньев, главный
герой ее, просыпается, потому что Карл Иваныч ударил
над ним хлопушкой и на его голову падает муха. Это рассердило Николеньку, и он
отчужденно и холодно анализирует поведение своего наставника. В свете этого
анализа даже халат, шапочка и кисточка Карла Иваныча
кажутся ему противными. Но Николенька очень добрый и отзывчивый мальчик, и
его неприязненное отношение к Карлу Иванычу, в основе
которого было просто раздражение внезапно разбуженного человека, быстро
сменяется естественным для него чувством любви и благодарности к учителю.
А вот
другой эпизод, внешне не связанный с первым. Николенька, возвратившись с
охоты, решил нарисовать все то, что он видел за прошедший день. Так как у него
была только синяя краска, то он «очень живо» изобразил синего мальчика верхом
на синей лошади и синих собак. Но тут у него возникает вопрос: а бывают ли
синие зайцы? Спросив об этом у отца и получив утвердительный ответ, Николенька
нарисовал синего зайца, которого затем переделал в куст, потом вместо куста изобразил
дерево, вместо дерева — облако и так далее. А закончил Николенька тем, что с
досады разорвал рисунок. Может показаться, что этот случай — пример
«мелочного», «микроскопического анализа ради самого анализа» или просто
зарисовка быта детей в семье Иртеньевых. Вероятно,
что все-таки не так. Зададим такой вопрос: почему же Николенька не мог
нарисовать синего зайца, если до этого он «очень живо» изобразил синюю лошадь и
синюю собаку? Просто потому, что когда Николенька со всей непосредственностью
отдавался рисованию, процессу творчества, тогда перед ним не вставало никаких
вопросов, но как только «включился» разум, анализ (бывают ли синие зайцы?),
непосредственность живого чувства была нарушена, и вместо удовлетворения от
рисования возникли досада и раздражение.
Несколькими
главами ранее Толстой описал игры детей, и это описание может послужить
дополнительным комментарием к приведенному эпизоду. Дети сели на землю и,
вообразив, что они плывут на лодке, начали «грести». Только брат Николеньки
Володя сидел неподвижно. Когда ему сделали замечание, он сказал, что от того,
будут ли они больше или меньше махать руками, ничего не изменится
и они никуда не уплывут. Все понимали, что Володя прав и с ним нельзя не
согласиться. Но и согласиться с ним тоже было невозможно. Глава заканчивается
таким вопросом: «Ежели судить по-настоящему, то игры
никакой не будет. А игры не будет, что же тогда останется?» Действительно,
разум, логика, анализ подсказывают, что синих зайцев не бывает, что, сидя на
траве и размахивая руками, никуда не уплывешь, а шапочка и халат Карла Иваныча в самом деле не так уже
привлекательны. Но в любви Николеньки к Карлу Иванычу
тоже есть истина, так же как и в свободной игре воображения и
непосредственности, с которой он отдается своим детским фантазиям, рисованию и,
главное, желанию любить, нравиться и делать добро всем окружающим его людям.
Все то, что могло бы нарушить светлый взгляд Николеньки на мир, непосредственное,
нерассудочное и доброжелательное отношение к людям, побеждается или любовью к
нему его близких, или, наоборот, любовью самого Николеньки к тем, кто его
окружает.
Вот Николенька нашалил
за столом, и
Наталья Савишна
его наказала, но, заметив у
него злые слезы
обиды, тут же, стараясь загладить свой поступок, дарит Николеньке нехитрые подарки, и он снова
плачет, но уже «не от злости, а от любви и стыда».
Когда же сталкивается
Николенька с людьми, подобными резко сатирически описанному
Толстым Этьену
Корнакову, который
показывает, как он, сидя на козлах кареты, любит задеть кнутом проезжающих,
то Корнаков не
может глубоко задеть его сознание просто потому, что
любовь к Сонечке в этот момент занимает все внимание Николеньки.
«Две лучшие
добродетели» — невинная веселость и беспредельная потребность любви — таковы,
по мнению Толстого, главные особенности, определяющие отношение человека к
миру и людям в детском возрасте.
Первым
читателем «Детства» был Н. А. Некрасов. Познакомившись с рукописью, он отвечал
ее автору: «Я прочел Вашу рукопись («Детство». — Б.
А.). Она имеет в себе настолько интереса, что я ее
напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется,
что в авторе ее есть талант. Во всяком случае, направление автора, простота и
действительность содержания, составляют неотъемлемые достоинства этого
произведения. Если в дальнейших частях (как и следует
ожидать) будет поболее живости и движения, то это
будет хороший роман. Прошу Вас прислать мне продолжение. И роман Ваш, и талант
меня заинтересовали». Свое впечатление о первом произведении начинающего
автора Н. А. Некрасов сообщил И. С. Тургеневу, подчеркивая, что «это талант
новый и, кажется, надежный». Тургенев отвечал: «Ты прав — это талант
надежный... Пиши к нему — и поощряй его писать. Скажи ему, если это может его
интересовать — что я его приветствую, кланяюсь и рукоплещу ему».
Когда
читатели и критики прочли в 1852 году в журнале «Современник» «Детство» —
первое произведение никому ранее не известного писателя,— мнение их было почти
единодушным. На естественно возникавший вопрос, какой интерес
можно извлечь из повествования о том, как проводил время, учился, играл,
шалил, ездил в гости, что думал и чувствовал маленький герой «Детства», ответ
современников был примерно таким: все это рассказано так хорошо, полно, с таким
поэтическим чувством, что от этих строк веет освежающей душу памятью детства,
дорогой и близкой всякому, в ком не заглушила чувств расчетливая жизнь
зрелого возраста. Талант автора ни у кого не вызывал сомнения.
II
После
выхода второй части трилогии, «Отрочество» (1854), и «Севастопольских
рассказов» (1856), когда можно было уже говорить о художественных принципах
начинающего писателя, с рецензией на произведения Толстого выступил Н. Г. Чернышевский.
Свою рецензию он начал с того, что суммировал общее мнение современников о
первых произведениях Толстого. От каждого, кто читал произведения начинающего
писателя, подчеркивал критик, вы можете услышать такое мнение о них:
«Чрезвычайная наблюдательность, тонкий анализ душевных движений, отчетливость
и поэзия в картинах природы, изящная простота — отличительные черты таланта
графа Толстого»[1]. Все это верно, продолжает Чернышевский, но то же самое можно
сказать и о Пушкине, Лермонтове, Тургеневе. Что же внес нового в русскую
литературу именно Толстой, что открыл он в человеке? По мнению Чернышевского,
Толстой открыл диалектику души. Часто крупнейшие писатели до Толстого,
применяя психологический анализ, брали то или иное чувство и разлагали его «на
составные части». Иногда писателей интересовала и другая сторона
психологического процесса: они изображали переход одного чувства в другое,
одной мысли в другую. Но все же обычно перед читателями представали только два
«крайние звена» этого процесса — начало и результат его. Толстой же, считает
Чернышевский, изображает не столько начало и конец того или иного душевного
процесса, исходное состояние и результат его, сколько сам процесс, то есть
подробно и скрупулезно исследует все этапы, которыми проходят человеческие чувства
и мысли, меняясь на другие, часто прямо противоположные.
Для того
чтобы раскрыть диалектику души, всю сложность и текучесть мыслей, переживаний,
чувств и оттенков чувств человека, Толстой очень внимательно вглядывается в
движения души своего героя. Но как совместить подробный анализ движущихся,
меняющихся, переходящих в свою противоположность мыслей и настроений героя с
исследованием трех значительно отличающихся друг от друга «эпох развития» человека
— детства, отрочества и юности? Ведь детальный анализ движений души человека
на протяжении длительного периода времени занял бы, вероятно, десятки томов.
Хотя у читателя и создается впечатление, что все шесть лет жизни
Николеньки Иртеньева (мы знакомимся с ним на третий
день после того, как ему исполнилось десять лет, а расстаемся с Николенькой,
когда ему шестнадцать) прошли у него перед глазами, в трилогии нет
последовательного, день за днем пересказа событий из жизни ее главного героя.
Почти половину текста книги Толстого, повествующей о трех периодах развития человека, занимает очень подробный, детализированный рассказ всего о нескольких днях жизни Николеньки. В «Детстве» мы подробно узнаем о том, как его герой провел два дня. Один день описывается на протяжении двенадцати глав — с первой по тринадцатую. Второй день, описанный столь же тщательно,— это именины бабушки. Им посвящается девять глав — с шестнадцатой по двадцать четвертую. В «Отрочестве» Толстой чрезвычайно подробно описывает самые горестные для Николеньки сутки, когда он получил единицу, нагрубил учителю-французу, открыл портфель отца и сломал ключ, рассказывает, как он был наказан за это и чем закончилось его наказание, Все это заняло шесть глав. В «Юности» особенно выделены три дня: день после поступления в университет, следующий за ним, когда Николенька делает визиты, а затем посещение им семьи Нехлюдовых.
Рассказывается об
этом на протяжении четырнадцати глав.
Итак, сорок
одна глава понадобилась Толстому, чтобы рассказать только о шести днях из
жизни Николеньки.
Замедленная
съемка крупным планом — так, пользуясь современными понятиями, можно
определить специфику художественного построения значительной части
автобиографической трилогии. И если, например, взять второй подробно описанный
день в «Детстве», то даже сами названия отдельных глав — «До мазурки»,
«Мазурка», «После мазурки» — свидетельствуют о такой степени художественной
детализации, которой, кажется, еще не знала русская литература. В этот
небольшой отрезок времени, изображенный чуть ли не поминутно, Николенька переживает
целую гамму чувств, настроений. Возникновение, развитие, угасание их,
вытеснение одних другими и анализирует здесь Толстой. По
сравнению с «Детством», в «Отрочестве» диалектика души становится еще сложнее и
многообразней — хотя бы потому, что в отрочестве не
только автор, но и герой постоянно анализирует свои чувства и настроения,
соотносит их с теми, которые испытывал ранее, и, что самое главное, именно в
отрочестве он замечает, как часто даже самые добрые намерения и побуждения
приводят к совсем неожиданным результатам.
Начинается
же отрочество у Николеньки с того, что он приобретает «новый взгляд на жизнь»,
то есть вдруг понимает, что в мире живет много других людей, они заняты своими
делами и заботами и им нет никакого дела до Николеньки Иртеньева.
Конечно, подчеркивает Толстой, Николенька знал это И
до того, как приобрел «новый взгляд на жизнь», но «не сознавал, не чувствовал».
Оказывается, знание знанию рознь. В тот период, когда Николеньке весь мир
казался одной семьей, где все люди любят друг друга и непосредственно связаны
с ним самим, он не выделял себя из окружающих людей, не ощущал себя как
личность. Теперь он осознал свое «я» как нечто отдельное от других людей.
Если
обратиться даже не к тексту трилогии, а только к заглавиям отдельных глав, то
можно заметить, что они часто называются именами тех, с кем сталкивается
Николенька, на« пример: «Учитель Карл Иваныч»,
«Гриша», «Наталья Савишна» и т. д.,— и нетрудно
заметить, что в «Детстве» нет ни одного заглавия, где было бы слово «я». А вот
в «Отрочестве» есть глава, которая так и называется,— «Я». Забегая вперед, заметим,
что в «Юности» глав, начинающихся с этого слова, будет много. Например, «Я
большой», «Меня поздравляют», «Я собираюсь делать визиты», «Я ознакомливаюсь» и т. д.
Осознав
себя как личность, Николенька научился не только на себя смотреть со стороны,
оценивая свои чувства и поступки как бы чужими глазами, но и приобрел
способность не так, как в детстве, основываясь на любви, а чаще всего отчужденно-аналитически
воспринимать окружающих людей. Если в детстве Николенька только на минуту
усомнился в доброте и отзывчивости Карла Иваныча, а
его халат и шапочка показались ему противными, то теперь, в отрочестве, в
свете «нового взгляда на жизнь», Карл Иваныч
показался ему «так странен и смешон», что Николенька удивляется, как он мог
прежде не замечать этого. Если в детстве Николенька глубоко уважал бабушку и
думал, что она любит его, то теперь видит, что он дорог ей только как
воспоминание о дочери. Отец, к которому он испытывал только благоговейную
любовь — и даже мысль о критике его не могла прийти в голову Николеньке,—
теперь тоже «много потерял» в его глазах.
В этих
наблюдениях Николеньки много правды и много ума, что чувствует и сам герой
«Отрочества». Ум, способность рассуждать, исследовать, анализировать — вот что
кажется теперь главным для Николеньки. Он увлеченно и самозабвенно философствует,
пытается решить самые главные вопросы жизни человека. Ему нравится даже сам
процесс размышления, «когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой и,
становясь все более и более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени
туманности, что не видишь возможности выразить их...».
Ощутимы
потери, которые несет Николенька в отрочестве: та глубокая радость любви,
которую он испытывал в детстве, сейчас оказывается для него недоступной,
предчувствием чего в детстве и были редкие и краткие минуты «безлюбовного» отношения к людям. «Редко, редко между
воспоминаниями за это время,— подчеркивает автор-повествователь,— нахожу я
минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей
жизни». И отсюда следует такая мысль: «Жалкая, ничтожная пружина моральной
деятельности — ум человека!»
Но не надо
спешить с окончательными выводами. Диалектика души — и, шире, диалектика
различных периодов становления человека в трилогии — в том и состоит, что развитая
способность к анализу и излишняя склонность к «умствованию», которые обедняли
жизнь Николеньки в отрочестве, в то же время привели его — правда, не без
влияния его друга Нехлюдова — к открытию одного важнейшего закона. Сущность
этого закона заключалась в следующем: назначение человека состоит в том, чтобы
постоянно совершенствоваться, и тогда «исправить все человечество, уничтожить
все пороки и несчастия людские» будет уже нетрудно. О том, что ожидало
Николеньку и его друга Нехлюдова на этом пути, и рассказывается в последней
части трилогии.
III
«Юность»
была опубликована в том же «Современнике» в 1857 году. Эта часть трилогии у
большинства критиков встретила холодный прием и была признана менее удачной,
чем «Детство» и «Отрочество». Анализ Толстого по-прежнему казался его
современникам глубоким, даже всепроникающим, вскрывающим истинные причины
человеческого поведения, хотя иногда и грешащим излишней мелочностью,
«микроскопичностью», и, самое главное, по мнению критиков, неминуемо вел
писателя к скептицизму и неверию в светлое и доброе начало в человеке.
Последний вывод был вполне логичен, так как «во многой
мудрости много печали» и в холодном свете анализа и рассудка действительно
часто за самыми возвышенными чувствами и побуждениями открываются довольно
простые и далеко не всегда столь уж идеальные мотивы и побуждения.
И все-таки
критики были правы далеко не во всем. Верно, что на пути следования открытому Иртеньевым и Нехлюдовым закону ждало много разочарований.
Исправить все человечество оказалось очень трудным уже потому, что даже
искренние и настойчивые попытки самосовершенствования чаще всего терпели
неудачу. За стремлением к самосовершенствованию нередко скрывалось тщеславие,
попытки следовать высоким нравственным принципам оборачивались самолюбованием,
а желание улучшить свой характер оказывалось средством возвыситься над людьми.
Но означают
ли неудачи Николеньки и Нехлюдова вообще неверие Толстого в саму возможность
нравственного самосовершенствования? Этому вопросу и посвящена последняя часть
трилогии.
Началом
юности Николеньки был тот момент, когда мысль, что «назначение человека есть
стремление к нравственному усовершенствованию» и что усовершенствование это
легко «возможно и вечно», стала не только убеждением, но и живым чувством. То
есть произошел тот же самый процесс, что и в отрочестве, когда Николенька
приобрел «новый взгляд» на жизнь. Он тотчас захотел «прилагать эти мысли к
жизни» — и здесь кроется главное отличие Николеньки от большинства окружавших
его в юности людей и даже от отца, занимающего важное место в трилогии.
Отличие это
состоит вот в чем. Были ли у отца Николеньки какие-нибудь нравственные
убеждения? — спрашивает автор-повествователь в главе «Что за человек был мой
отец?». Оказывается, что «ему некогда было составлять себе
их, да он и был так счастлив в жизни, что не видел в том необходимости», Вот
почему легко, с улыбкой он мог уступить в споре и даже, например, один и тот же
поступок, в зависимости от ситуации, «рассказать как самую милую шалость и как
низкую подлость».
Николенька
же, напротив, придет к убеждению, что человек не может быть счастлив, если не
выработает для себя нравственные критерии, и его внутреннее состояние будет
зависеть от того, насколько строго удается ему следовать открытым им в юности
нравственным принципам.
Еще в
детстве Николенька замечает, что играют не только дети, но и взрослые. Однако, если дети хорошо видят разницу между правилами игры и
действительностью, то взрослые выдуманные ими правила уже давно признали за
саму действительность, а способность разграничивать их утратили. Эволюция
Николеньки Иртеньева в том и заключается, что он, с
одной стороны, все более и более подчиняется правилам игры взрослых, то есть
законам среды, в которой живет, и со всей непосредственностью следует им. С
другой стороны, благодаря развитой способности анализа и самоанализа он
постоянно наблюдает в себе это подчинение и так же непосредственно борется с
ним, осуждает его.
Вот дочь
гувернантки Катя, с которой Николенька всегда считал себя равным, объясняет ему
разницу между их имущественным положением. «Что ж такое, что мы богаты, а они
бедны?.. Отчего ж нам не разделить поровну того, что имеем?» — задает себе
Николенька «детский» вопрос, бывший предметом самых серьезных размышлений для
многих социалистов-утопистов; а на исходе дней — и для самого автора трилогии,
с той лишь разницей, что Толстой мечтал раздать все, чем он владел. Но,
подчиняясь правилам игры взрослых, Николенька молчит и, «в противность этим
логическим размышлениям», считает, что Катя права и что «неуместно бы было
объяснять ей свою мысль».
В юности
Николенька постоянно с большим или меньшим успехом играет какую-нибудь роль. То
влюбленного, строя свое поведение по схемам, вычитанным им из романов, то
философа, так как в свете его мало замечали, а постоянной задумчивостью и
уединением можно было скрыть свой неуспех, то человека comme
il faut, хотя он менее всего был способен к
этому, то роль большого оригинала. При этом он заглушает в себе естественные
чувства, мысли и побуждения.
Чаще всего
он делает это потому, что хочет нравиться окружающим его людям, хочет, чтобы
его любили. Он стремится быть таким, как все, как его отец, как старший брат,
как товарищ старшего брата Дубков, перенимая привычки, правила, мысли людей
своего круга. Но какую бы роль ни играл Николенька в юности, как бы ни старался
быть похожим на тех, для кого однажды выбранная роль стала второй натурой, он
никогда не будет похож на большинство окружающих его людей. И
прежде всего потому, что все они никогда не создавали нравственных правил и не
мучались оттого, что их не удается применить в жизни, а пользовались теми,
которые были приняты в их среде и считались общеобязательными.
Постоянный
самоанализ часто убивал непосредственность ощущений, но он же позволял
Николеньке увидеть в себе то ложное, тщеславное, надуманное, что многие
благополучные и довольные собою люди считали собственной добродетелью. Главное
чувство, которое испытывал Николенька в юности, было «отвращение к самому себе
и раскаяние». «Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был
главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития...» — подчеркивает
автор-повествователь. И с необычной для трезвого и аналитического авторского
тона третьей части книги патетикой и, конечно, без всякого скепсиса и неверия в
природу человека он восклицает: «Благой, отрадный голос, столько раз с тех пор,
в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и
разврата, вдруг смело восставший против всякой неправды, злостно обличавший прошедшее,
указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего и обещавший добро и
счастье в будущем,— благой, отрадный голос!»
Потому
читатель и верит, что Николенька никогда не остановится в своих нравственных
поисках. В конце трилогии Николенька снова садится писать правила жизни,
будучи твердо убежден, что уже никогда не сделает ничего дурного, ни одной
минуты не проведет праздно и никогда не изменит своим правилам.
Этот голос
всю жизнь звучал и в душе самого Толстого, то
заставляя его с покоряющей искренностью отрекаться от всей своей прошлой жизни,
то страстно утверждать в художественных и публицистических произведениях,
обогативших нравственный опыт нескольких поколений читателей, кажущиеся ему
окончательными нравственные истины.
Б. Аверин
Источник: Толстой Л.Н. Детство.
Отрочество. Юность / Вступительная статья Б. Аверина;
Оформление художника Л. Селизарова. - Л.: Художественная литература, 1979. - 336 с.