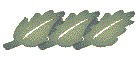 |
Лев Толстой. Идейные искания и творческий метод.
1847-1862. |
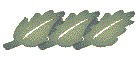 |
Отрывок из книги Бурсова Б.
Глава вторая. АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3.
Часть 4.
Часть 5.
Часть 6.
Часть 7.
Часть 8. Работа Л.Н. Толстого над повестью "Юность" в Севастополе
Часть 9.
Часть 10.
Часть 11.
Часть 12.
Часть 13.
Приступая к изучению наследия Толстого, к
выяснению его места в истории русской и всей мировой культуры, прежде всего обращаешься к этим широко известным словам Ленина.
Гениальность Толстого — лишь одно из условий той роли, которую сыграл он в мировом литературном процессе. Кроме того, сама по себе гениальность художника ничего не объясняет, так как ее особая направленность в конце концов сама определяется особенностями эпохи, когда развертывается деятельность этого художника. С другой стороны, если говорить о Толстом и его эпохе, — эпоха, взятая лишь в ее национальном аспекте, позволит нам понять Толстого только в рамках истории русской литературы. Отсюда следует, что мировое значение художественных открытий Толстого необходимо связать с характеристикой, из которой было бы видно, как она, эпоха эта, могла стать основой для такого художественного взлета, равного которому не знал прошлый век.
Известны слова Маркса о том,
что периоды расцвета искусства не находятся в соответствии с общим развитием
общества, то есть общественно-экономический прогресс не обязательно ведет к
расцвету искусства. Так, например, капиталистический способ производства сам
по себе вообще враждебен искусству. Но из этого вовсе не следует ни того, чтобы
наступали такие периоды в истории, когда исчезает художественное творчество,
ни того, чтобы причины развития искусства находились где-то вне общественной
структуры. Как раз напротив, историку искусства необходимо глубже проникнуть в
природу каждой общественно-экономической структуры, изучая ее под определенным
углом зрения: в каком соотношении находится она с человеческим
в человеке.
Люди сами делают историю, но это вовсе не
означает, что они всегда свободно распоряжаются собою. Этим определяется
уровень человеческого в человеке, — то
есть тем, в какой мере он свободен по отношению к самому себе и к
обществу в целом. Поскольку главный предмет искусства — человек, уровень
искусства зависит от того, в какой степени человек чувствует себя человеком.
Капитализм, как общественно-экономическая система, враждебен искусству, иначе
говоря — человеку, но потому-то он пробуждает в человеке чувство протеста, что
и создает предпосылки для развития искусства при капитализме.
Искусство поэтому
расцветает и возвышается в таких условиях, когда возвышается человек или когда
он выступает на защиту человеческого в нем самом и против уродующих его
человеческое достоинство социальных условий. Можно сказать так: искусство —
специфическая форма общественного сознания, обращенная целиком к возвышению
человека и защите человеческого в нем: его человеческого достоинства, свободы,
неповторимого индивидуального своеобразия, полноты его жизни.
Проблема защиты человека, пробуждения его
стремлений к всестороннему развитию — вечная проблема человеческой истории,
но, пожалуй, нигде и никогда она так остро не стояла, как «в эпоху подготовки
революции в одной из стран, придавленных крепостниками».
То, что странами Западной Европы было
пережито на протяжении многих веков и в течение ряда эпох, Россия пережила за
одно неполное столетие. В самом деле, эпоха Возрождения, с ее сложными и
своеобразными конфликтами, заняла около трех столетий (XIV—XVI).
Пережив буржуазную революцию в XVII веке, Англия ранее других
западноевропейских стран сделалась классической страной капитализма. Франция в
XVIII веке сыграла
свою роль в мировой истории как классическая страна просвещения и буржуазной
революции. К середине прошлого века в ведущих странах Западной Европы уже
произошли революционные потрясения, в которых впервые выступил пролетариат как
самостоятельный класс. Это было движение мировой истории, означавшее не
только рост производительных сил, не только рост экономики, не только ломку
общественных отношений и государственных форм, — в этом движении истории
менялось положение человеческой индивидуальности в обществе, в результате чего
человек все острее чувствовал стеснительность возникавшей общественно-экономической
системы. Каждый поворот преодолевал одни противоречия в обществе и ставил на
их место другие, более глубокие.
В России с большим запозданием был
поставлен вопрос о человеческой личности и ее отношении к обществу. Отставая в
течение ряда столетий от Западной Европы, она затем прошла ее многовековой путь
за одно столетие. Таков был в ней запас энергии, сдержанный особенностями
ее исторической судьбы, объясняющимися в первую очередь длительными
нашествиями и тяжкими разрушениями. Вступив на путь, общий для европейских
стран, она с невероятной быстротой достигла той глубины противоречий, которые
в Западной Европе накапливались веками. Это не было простым повторением
западноевропейского пути. В России был смешан весь классический порядок
очередности общественных конфликтов, в силу чего создалось невыносимое
положение для человека, граничащее со стихийным бедствием. И это ощутили не
только угнетенные массы, но и лучшие люди господствующих сословий.
Освободительное движение в России, как показал Ленин, начинают дворяне,
которые прониклись болью за человека, за его человеческое достоинство и у
которых так остро развито чувство национального самолюбия, желание сделать свою
страну страной, где будет уважаться человек.
Концентрация общественных противоречий
обусловила и концентрацию и бурное развитие идейной
жизни в России XIX
века. Характерную черту ее отметил
М. Горький: дворянская мысль в России
вступила на путь проповеди демократизма, а разночинская — социализма. Демократические
идеи дворянства, конечно, не переставали быть дворянскими, являясь отражением
потребности страны в демократическом развитии. Точно так же социализм
разночинцев (и Герцена) по своему реальному содержанию был программой
демократических преобразований — в более решительном, чем у дворянских
революционеров, варианте. Ленин неоднократно отмечал это реальное содержание
социалистических теорий Герцена, шестидесятников и революционных народников.
Однако нужно принять во внимание и другую сторону: нераздельность демократизма
и социализма у русских просветителей, их веру в освобождение человека от
всякого угнетения, их надежду на то, что в результате осуществления их
программы народ будет избавлен от необходимости переживать капиталистическую
стадию эксплуатации, установит социалистические формы в человеческом
общежитии. Это, разумеется, была утопия, но утопия, выросшая не только из-за
отсутствия развитого рабочего движения, но и из своеобразной концентрации
общественных противоречий: русская мысль учитывала западноевропейский опыт и
по-своему применяла его к русским условиям.
Утопизм, свойственный русской демократической мысли, связан с утопическими системами Западной Европы, но, возникнув гораздо позднее их и в иных социально-исторических условиях, он приобрел свои особые черты и благодаря этому занял свое место в истории мировой социалистической мысли.
Французские утописты
находятся в прямой зависимости от французских материалистов. «Фурье исходит
непосредственно из учения французских материалистов»[1],
— писал Маркс в «Святом семействе». Развитие французской общественной мысли в
целом шло таким образом, что социалистические учения возникали из материализма
просветителей после революции 1789— 1793 годов, когда уже стали ясны
противоречия капитализма. Аналогичный процесс происходил в Англии, где самая
значительная социалистическая система — Роберта Оуэна
— появилась спустя полтора столетия после Кромвеля. В Германии противоречия
буржуазного развития осознавались в начале XIX века преимущественно в философской
умозрительной форме,— это в первую очередь относится к философии Гегеля. До
буржуазных революций на Западе социалистические учения появлялись лишь в
качестве фантастических картин, подобных «Утопии» Томаса Мора.
Россия, чреватая буржуазно-демократической
революцией нового типа (с пролетариатом во главе ее), воспринимает
утопические системы социалистов в их наиболее развитом виде и, отбрасывая
регламентирующие подробности, проникается самой существенной идеей социализма —
идеей всестороннего и свободного развития человеческой индивидуальности в
обществе, которое обеспечивало бы такое развитие. Эту особенность идеала
русских социалистов нельзя выделить и сбросить как некую неподтвержденную
утопию ни в мировоззрении Белинского или Герцена, ни в мировоззрении Чернышевского
и Добролюбова. Не поднявшись в силу отсталости русской жизни того времени до
научного обоснования идеала, они благодаря особенностям нараставшей в России
революции предвосхитили потребности народа в нем. Идея всестороннего и
свободного развития личности проникает и в принципы художественного видения
действительности почти у всех великих русских писателей. Это произошло,
конечно, не в силу того, что русские передовые люди начитались Фурье,
Сен-Симона и других утопистов, а в силу остроты вопроса о положении человека
в России, вопроса о его развитии в условиях того стихийного бедствия, о
котором говорилось.
Россия, писал Ленин, поистине выстрадала марксизм ценою полувековых исканий, начиная с сороковых
годов прошлого века. Вопрос о противоречиях, которые позже обусловили поиски
истинной социальной теории, был поставлен за
несколько десятилетий перед этим. Пушкин первый уловил человеческую трагедию
своего века в России — трагедию настоятельной потребности всестороннего
гармонического развития человека и невозможности осуществления этой потребности
в условиях еще не сломленного крепостничества и надвигающегося капитализма. С
тех пор героем русской реалистической литературы становится человек,
стремящийся к гармоническому развитию и никогда не достигающий этого идеала.
Здесь нет возможности останавливаться на хотя бы и кратком обзоре истории русской литературы в этом аспекте, чрезвычайно для нее важном, можно сказать определяющем ее лицо в сравнении с литературами других народов этого времени, от которых она так много взяла. Мы должны только отметить, что из всех русских писателей никто так полно и глубоко не раскрыл эти высокие устремления и эту трагедию человека XIX столетия, как Лев Толстой, герой которого, переходящий из одного произведения в другое, общенационален и общечеловечен в этом именно смысле. Можно сказать, не рискуя впасть в преувеличение, что если другие русские писатели изобразили какие-то моменты и стороны этих продолжавшихся целое столетие исканий и неизменно сопутствующей им трагедии человека, то всем творчеством Льва Толстого весь этот процесс был обрисован в его целостном и как бы «чистом» виде, не прикрепленном к какому-нибудь данному десятилетию или даже году, как, скажем, это всегда ясно относительно героев Лермонтова, Тургенева, Островского и многих других писателей. Только один Достоевский поднялся до такой высоты отражения этих исканий и этой человеческой трагедии, но он возвел все это в абсолют, метался в трагической разорванности несовместимых крайностей, заключенных в мышлении человека XIX столетия.
Первая русская революция,
эпоха подготовки которой и выдвинула Толстого как всечеловеческого писателя,
несмотря на свое буржуазное содержание, была народной по своему характеру: в ней прежде всего был заинтересован народ и она не могла
совершиться без широкого участия в ней народа. Однако народ не был готов к
революционным действиям, он — в значительной своей части,
патриархально-крестьянской — отстранялся от революции. Поэтому путь России к
революции был одновременно и трагическим и эпическим. Достоевский в своих
исканиях и в своем творчестве отразил лишь трагедию русской революции.
Во Льве Толстом своеобразно соединились ее эпос и трагизм — в той
истории нравственных исканий его героя, которая им обрисована во всех ведущих
произведениях и в той доходящей до корня народной критике всех основ античеловечного строя, перемешанной с патриархальными
упованиями и иллюзиями, которую он развернул преимущественно после перелома.
Эпос достался Толстому, следовательно, дорогой ценой — ценой проповеди
патриархального смирения, опрощения и т. п. Но здесь же, в отражении эпоса
народной жизни, предпосылки к перелому в мировоззрении Толстого, к бесстрашной
критике всяческого угнетения и порабощения — к критике, отразившей «горы злобы
и ненависти», накопившиеся в народе.
Трагический характер развития человека XIX столетия был открыт — и философски и
художественно — задолго до Толстого. Об этом достаточно убедительно говорит
философия искусства Гегеля, трагическое искусство Гете («Фауст»),
«Человеческая комедия» Бальзака. Русская литература, начиная с Пушкина,
стремилась показать, что у человека есть выход из трагического состояния
— в разрешении тех вопросов, которые были жизненно необходимы для народа.
Толстой делает как бы равнозначными обе эти черты — и трагизм личности, и ее
развитие в сторону народной жизни. Оригинальность Толстого в том, что и ту и
другую черту он возводит к духовной природе самого человека и к материальным
условиям его существования. В результате он создает героя, погруженного
прежде всего в самого себя, в свою мысль, охватывающую судьбы человечества,
подчас нетипичного для того или иного исторического отрезка, однако всегда
несущего в себе признаки трагических, но не теряющих надежды исканий
человеческого духа на протяжении всего XIX века.
И это могло иметь место только в России и только в эпоху Толстого, когда Россия, усвоив достижения западноевропейской мысли и культуры, шла самостоятельным путем к своей революции, подобной которой не знала Западная Европа.
Герой Толстого, естественно, никогда не удовлетворен собою и окружающим миром, он всегда ищет лучших решений, а потому непрерывно меняется, становится иным. Духовные и моральные поиски толстовского героя и его стремление к самосовершенствованию перерастают и сливаются с критическим анализом его текучей, всегда меняющейся психологии — психологии человека XIX столетия — и тех условий, которые породили ее. Самокритика героя приобретает форму критики цивилизации, ее античеловечности, а это приводит к патриархальным иллюзиям, которые затем, сталкиваясь с беспощадным анализом, разлетаются в прах, чтобы тут же или вскоре замениться новыми иллюзиями, и т. д. Вся эта титаническая работа, естественно, не могла не завершиться критикой всех видов эксплуатации с позиций народа, правда, еще не видевшего подлинного пути защиты своих интересов. Ни один из величайших художников Запада не прошел такого пути, и потому Ленин говорил, что на Западе некого сравнить с Львом Толстым.
Обрисовать это сложное и
противоречивое развитие Толстого, понять сущность и особенности его героя, то,
в чем состоит богатство его духовной жизни, чем близок он всем людям, особенно
же нам, советским людям текущего времени, — задача увлекательная и благодарная,
хотя и в высшей степени трудная.
«Умер Толстой, — писал Ленин в его
некрологе, — и отошла в прошлое дореволюционная Россия, слабость и бессилие
которой выразились в философии, обрисованы в произведениях гениального
художника. Но в его наследстве есть то, что не отошло в прошлое, что принадлежит
будущему»[2].
Мы сейчас больше, чем когда бы то ни было
раньше, можем сказать, что будущее, о котором писал Ленин, наступило.
Что же принадлежит нам в огромном наследии Толстого?
Отвечая на этот вопрос, обычно указывают
на критический пафос в творчестве великого писателя. Это, безусловно,
справедливо, но требует более полного раскрытия. Подвергая критике весь
эксплуататорский строй, Толстой отстаивал право человека на всестороннее развитие,
он изображал своих героев как людей непрерывно духовно возвышающихся, идущих —
через кризисы и потрясения — к сознанию своего высокого человеческого
назначения.
Мы не настолько далеко ушли от исторического опыта прошлого, чтобы забыть этот трагический и эпический опыт, завершившийся победой народа, — да его и нельзя вообще забыть человечеству, этот опыт. Но дело не в одной только памяти, не в одной благодарности потомков.
Характер исторического
развития нового общества, о котором мечтало человечество, устранил неизбежность
исторических трагедий на пути развития народа и личности, а само
непрерывное и всестороннее развитие всей нашей жизни стало законом ее;
это и делает художественные открытия Толстого, доступные для всего человечества,
особенно близкими нам — людям, строящим коммунизм. Вот почему так понятны
нашему читателю, без особых пояснений, духовные искания Пьера Безухова или
Константина Левина, трагедия бескомпромиссной любви Анны Карениной, красота
Марьяны и Наташи Ростовой. Вот с какой точки зрения раскрывается нашей
современности положительное, жизнеутверждающее в творчестве Льва
Толстого, вот чем он приближается к нашему великому времени построения царства
истинной свободы человека.
АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ
1
Автобиографический жанр занял виднейшее
место в мировой литературе нового времени. Наиболее выдающиеся произведения
этого жанра появлялись в периоды исторических переломов. Каждое из них — это, с
одной стороны, повествование о формировании и развитии личности, отражающей в
себе существенные признаки целого исторического этапа, а с другой стороны —
исповедь ее перед эпохой, перед историей, перед народом, осознание и критика
своих заблуждений и несовершенств.
Формирование автобиографического жанра
нового типа началось в общем с эпохи Возрождения[3].
Крупнейшие автобиографические повествования были созданы деятелями века
Просвещения. Это раньше всего «Исповедь» Руссо и «Поэзия и
правда» Гете. В XIX
веке выдающийся вклад в этот жанр сделан русскими писателями.
Отставая от передовых стран
Западной Европы по уровню общественно-экономического развития, а также
общественной мысли, Россия, приблизительно с середины XIX столетия, постепенно становится страной
более широкого массового движения. Буржуазно-демократическая революция в
России нарастала как всеобщая, народная революция. С этим была связана задача
колоссальной переплавки человеческого материала. Причем эта переплавка должна
была осуществляться в невиданно короткие исторические сроки.
На Западе процесс становления
индивидуальности, самостоятельно избирающий свой путь деятельности, начался,
собственно, с эпохи Возрождения; в России же некие зачатки его можно увидеть в
эпохе Петра Первого, а вообще он развивается после
победы над Наполеоном, проходит через такие стадии, как восстание декабристов,
сороковые, шестидесятые годы. От последней даты оставалось всего четыре
десятилетия до первой русской революции, во главе которой стал
вполне сложившийся как революционный класс русский пролетариат с его
марксистско-ленинской партией и которая всколыхнула всю многомиллионную
крестьянскую массу, пускай еще и политически незрелую.
Проблема личности в России
в общем ставилась передовой русской мыслью одновременно как демократическая и
социалистическая. Это отражало назревание в стране крестьянской, плебейской революции
в условиях XIX
века, когда противоречия буржуазного развития вполне развились на Западе и
учитывались русскими публицистами и писателями.
Передовые русские деятели, даже оставаясь
просветителями, уже не могли верить так безотчетно в силу разума и в его
предначертания, как это было свойственно, например, французским просветителям XVIII века, и придавали большое значение
социальной практике России и Запада.
Характерно в этом отношении, что если в
конце XVIII века в России
наибольшей популярностью из французских просветителей пользовался Вольтер, то
в XIX веке возрастает
внимание к плебею Руссо, поставившему вопрос о противоречиях развития
цивилизации.
«Исповедь» Руссо явилась величайшим
открытием в истории всей мировой литературы в том смысле, что в ней был
нарисован характер человека, который, чувствуя на себе противоречия
цивилизации, не знает границ ни в уважении к самому себе, ни в критике самого
себя.
Самокритика героя «Исповеди» достигла
такого уровня, герой рассказывал порою о столь неблаговидных поступках,
совершенных им, что это начинало представляться клеветой его на самого себя. С
этим связаны обвинения Руссо в лицемерии, которые встречаются и в критической
литературе, и в замечаниях о нем ряда великих писателей, в том числе Гейне,
Пушкина и Достоевского. Автор упомянутой новейшей монографии о Руссо И. Верцман отклоняет подобного рода упреки. Он ссылается на
Толстого, который завидовал такому качеству Руссо, как откровенность, в
особенности же на Чернышевского, утверждавшего, что как бы ни критиковал себя
Руссо, он вместе с тем считал самого себя одним из лучших людей в мире и на
деле был таким.
Спору нет, откровенность, с которой Руссо
рассказывает о самом себе, является борьбой за правду, а не изменой ей.
Этого, собственно, не отрицал даже Достоевский, наиболее резко сформулировавший
свою мысль о наличии элемента внутреннего лицемерия в «Исповеди», не говоря
уже о Гейне и Пушкине. Критика Достоевского относится, собственно, не к самой
по себе откровенности Руссо, а к тому, что он гордится этим своим стремлением,
что он уверен в своей абсолютной правдивости. Такая уверенность для
Достоевского и его героя, всегда готового броситься из одной крайности в
другую, просто невозможна.
Руссо представительствовал плебейские слои
в подготовке буржуазной французской революции XVIII века, в частности и в особенности
крестьянство. Он был наиболее непримирим ко всем установлениям феодализма и
монархии, его требования полного слома всего старого строя были самыми
решительными. Он считал, что задача его самого и людей его круга — освободиться
от пороков так называемого цивилизованного общества и возвратить себе облик
нормального, естественного человека. И ему казалось, что чем более сильный упор
сделает он на своих пороках, тем ярче подчеркнет внутреннюю потребность в
идеале, в очищении от всякой скверны. При таком понимании сущности человека
возможность преувеличения его недостатков вовсе не была исключена.
К тому же Руссо, как и всем
просветителям XVIII
века, не была вполне ясна связь человеческих пороков с новой сущностью
человека, формирующейся в ходе возникновения капиталистических отношений. Ему
поэтому казалось, что человек в значительной степени виноват в том, что эти
пороки приобрели над ним власть, и, следовательно, он сам же в состоянии
освободиться от них, опираясь на свою подлинную, естественную природу.
Отсюда просветительский характер его самообличений, просветительская
уверенность в силе своего разума и искренности своих чувств. Вот это и
показалось Достоевскому лицемерием.
В духовном развитии Толстого и в его
художественной практике Руссо занял очень важное место. Трудно назвать другого
такого писателя, о котором Толстой говорил бы с таким благоговением. Между ними
и в самом деле немало общего. Оба они были одновременно и художниками и
философами-моралистами. Для того и для другого проблема самовоспитания
оставалась всегда центральной. А тот, кто всю жизнь занимается самовоспитанием
как своим главным делом, не может не относиться к себе критически, не следить за
каждым своим поступком.
Предстоящий и совершенно необходимый
переворот в обществе Толстой, как и Руссо, трактует в основном как переворот
морального порядка. Главнейшим средством его достижения он, вслед за Руссо,
считает самовоспитание человека, отмежевываясь от политики, утверждая, что
политическая борьба способна принести один только вред.
Однако между позицией Руссо и позицией
Толстого большое различие. Например, герой Руссо, безотчетно веря в силу
предначертаний разума, думает, что перестройка самого себя зависит только от
него лично, а перестройка общества — от составляющих его личностей, по своей
природе принципиально одинаковых. Герой Толстого знает больше — он знает,
что дело не только в нем самом, но и в других людях, в народе, который ему предстоит
понять как нечто другое, не совпадающее с ним и самостоятельное по
своей природе, — вот тип отношения к миру, возникший из опыта XIX столетия. Перерабатывая себя, Толстой
полон недоверия к себе. Отсюда его постоянный самоконтроль и, я бы сказал,
самоистязание. Тут уж хвастаться откровенностью не приходится.
Толстой столько же воплощает в себе XIX век, сколько Руссо —XVIII, хотя они перекликаются постановкой
одной и той же проблемы — противоречивости «цивилизации».
Характер героя Руссо в некоторых
отношениях умозрителен, ибо его развитие определено не столько столкновениями
с реальной действительностью, сколько исполнением сделанных разумом
предначертаний.
Поисками, характерными именно для XIX века, отмечены уже самые первые
произведения Толстого — автобиографическая трилогия.
Над автобиографической трилогией Толстой
работал в течение шести лет — с 1851 по 1856 год. Замысел этого произведения
возник еще до отъезда на Кавказ. Написано же оно большей частью во время
пребывания Толстого в армии. Над повестью «Детство» — когда она выделилась в
относительно самостоятельный замысел — Толстой работал около года. Лишь в
четвертой редакции рукопись удовлетворила его самого и в июле 1Ь52 года была
отправлена в журнал «Современник». «Отрочество» создавалось в период с ноября
1852 по январь 1854 года. «Юность» с марта 1855 по сентябрь 1856 года. В обоих
последних случаях Толстой остановился только на третьей редакции.
Вначале сюжет «Детства» входил составной
частью в замысел большого романа, несколько позже названного Толстым «Четыре
эпохи развития» (см. письмо Некрасову 3 июля 1852 г.). Первая половина
черновой редакции романа близка начальным пятнадцати главам законченного
текста «Детства», во второй речь идет о периоде отрочества и юности, но содержание
ее мало соприкасается с окончательным текстом двух последних повестей трилогии.
Первый вариант «Четырех эпох развития»
представляет собою род биографических записок. Во введении к запискам читаем:
«Зачем писал я их? Я вам
верного отчета дать не могу. Приятно мне было набросать картины, которые так
поэтически рисуют воспоминания детства. Интересно было мне просмотреть свое
развитие, главное же хотелось мне найти в отпечатке своей жизни одно
какое-нибудь начало — стремление, которое бы руководило меня, и вообразите,
ничего не нашел ровно: случай... судьба!» (1, 103).
Судя по приведенным словам, введение
писалось, когда работа над записками была уже закончена, вернее
когда она была приостановлена. Автор, в сущности, признает, что тема их еще
довольно туманно представляется ему, но задача ясна: он хотел найти в себе
«одно какое-нибудь стремление», основную идею своей жизни. Это вполне
соответствует тому духовному состоянию Толстого, во время которого писался
первый вариант «Четырех эпох развития»,— состоянию потери выработанного весной
1847 года идеала и раздумий о своем жизненном назначении. Этот тяжелый духовный
опыт Толстого, как увидим дальше, остался в основе замысла трилогии, хотя
художественное воплощение получил при исполнении другого, параллельного замысла
(«Роман русского помещика»).
Возвратившись к теме записок, Толстой,
начиная с этого момента, четко разграничивает ее на четыре отдельных раздела,
рассчитывает написать четыре повести, связанных между собою одной общей идеей,
но все же вполне самостоятельных. Об этом свидетельствуют два плана «Четырех
эпох развития», разработанных во второй половине 1852 года. Анализ их будет
дан ниже.
Как уже сказано, хотя в первой части
описаны события, которые затем составляют стержень первых пятнадцати глав
окончательного текста «Детства», по своему действительному содержанию она очень
далека от них. Здесь Толстой больше описывает близких ему людей и их взаимные
отношения, чем рассказывает о том, какое все это имело значение для его героя
и, следовательно, для него самого.
В самом начале подробно
говорится об отце и о maman. Некоторыми своими
чертами эти образы уже приближаются к их окончательным вариантам. Особенно
рельефен образ отца как типичного представителя великосветской среды,
великолепно натренированного в том, чтобы всюду показывать себя в наиболее
выгодном свете. В последующих редакциях эта жесткая характеристика будет
значительно смягчена. Образ maman менее отделан.
Отношения же между отцом и maman здесь сведены,
главным образом, к тому, что брак их неузаконен и что дети являются незаконнорожденными. На этой
почве возникают всякого рода распри, которые вводят героев (мальчиков) в
незнакомый Толстому мир (отец отдает их, как незаконнорожденных, в коммерческое
училище вопреки воле матери, желавшей узаконить брак ради детей). Этот
конфликт, навеянный Толстому семьей Исленьевых,
оказался чужд задаче произведения — «просмотреть свое развитие» и найти
«какое-нибудь одно стремление» — и в последующих редакциях устранен. Мнения
отца и маменьки расходятся и по другим вопросам. В частности, несколько
страниц занимает их спор о юродивом: в то время как maman
относится к нему с глубоким сочувствием, отец, со свойственным ему великосветским
высокомерием, резко осуждает юродивого. Следующий значительный эпизод «Четырех
эпох...» — охота. Большую часть этого эпизода составляют, однако, рассуждения
по поводу охоты. Внутренний мир героя и здесь очень слабо раскрыт, не связан
цепью движения, развития.
Вторая часть посвящена московской жизни
автора записок. Она уже почти совсем не имеет ничего общего с будущим
«Отрочеством». Причем и в этом случае Толстой сам объяснил, почему вещь не
удалась. И опять об этом сказано на первых страницах ее. Он пишет свои
воспоминания, но для того чтобы писать хорошо, их надо любить. Он же не любит
того времени своей жизни, о котором хочет рассказать. По этой причине, говорит
он, «я вдался в общие места, и, вместо моей особенной личности, вышел какой-то
мальчик в какой-то школе... В то время же, как я писал это, мне казалось, что я
пишу из сердца, а я писал из головы, и вышло жидко» (1, 137—138).
Толстой, как можно заключить из этого
признания, стремится дать историю развития не «какого-то мальчика», а своей
«особенной личности», вырабатывающей свое особенное стремление. Чтобы
обнаружить это подлинное, а не надуманное стремление, надо писать «из сердца»,
он же писал «из головы».
В дальнейшем работа шла в том
направлении, чтобы вещь была написана «из сердца». Тут мы видим нарастающее
недоверие к рационализму, а с другой стороны — углубление в моральную
проблематику. То и другое опять-таки соответствовало стремлению Толстого в
1851—1852 годах пересмотреть выработанный весной 1847 года свой идеал с точки
зрения морали и отыскать причины его крушения.
Такой угол повествования был найден во
второй редакции «Детства». Третья и четвертая редакции — это уже, главным
образом, литературная обработка материала. Не случайно ко времени окончания
работы над второй редакцией «Детства» относится написание первого варианта
плана всех четырех повестей. Спустя несколько месяцев, в том же 1852 году, был написан второй вариант
плана, в котором ведущая мысль произведения сформулирована с достаточной
ясностью и определенностью.
Вот это место:
«...Резко обозначить
характеристические черты каждой эпохи жизни: в детстве теплоту и верность
чувства; в отрочестве скептицизм, сладострастие, самоуверенность, неопытность и
(начало тщеславия) гордость; в юности красота чувств, развитие тщеславия и
неуверенность в самом себе; в молодости — эклектизм в чувствах, место гордости
и тщеславия занимает самолюбие, узнание своей цены и
назначения, многосторонность, откровенность» (2, 243).
Приведенный отрывок плана показывает, что
поворот от повествования «из головы» к повествованию «из сердца» уже
совершился. Характеристика каждого из четырех возрастов человека, составляющих
предмет повествования, дана не с точки зрения преобладания в нем тех или иных
внешних событий, а также не по признаку духовных исканий и интересов. На
каждой ступени своей жизни человек взят во всей его целостности, всякий раз
выясняется общий характер его отношения к миру и к самому себе. Нравственные
задачи, таким образом, стоят на первом плане, а это требует проникновения
прежде всего в сердце и в душу человека.
Вместе с тем Толстой не
отказывается от своей основной задачи — найти в себе «одно какое-нибудь начало
— стремление, которое бы руководило». Он приходит к выводу, что в детстве,
отрочестве и юности еще и не могло возникнуть это стремление, а могло лишь
подготавливаться всем духовно-моральным развитием. Только молодости
соответствует «узнание своей цены и назначения» и
связанные с этим «многосторонность, откровенность». Толстой, таким образом, не
отказывается и от выработанного весной 1847 года идеала всесторонне развивающейся
личности, служащей всестороннему развитию человечества. Такая личность в ее
становлении и есть герой произведения Толстого.
Писанию «из сердца» перед писанием «из
головы» Толстой отдавал предпочтение еще в рукописи «Четыре эпохи развития».
Его высказывания на эту тему неоднократно привлекали внимание исследователей.
Они рассматривались под углом зрения борьбы за искренность в искусстве. При
более внимательном отношении к делу выясняется, что такой аспект недостаточен.
Толстой говорит — как о главной — об обязанности художника видеть в человеке прежде всего человека, то, насколько он
является человеком, многосторонне, развивающим в себе все человеческое.
Начав литературную деятельность в русле
основных традиций русской литературы, Толстой уже в первом своем произведении
обнаружил тяготение к опыту западноевропейских писателей, в частности Стерна,
Руссо, Тёпфера и Диккенса. В литературе о Толстом эта
сторона дела довольно широко освещена. В наше время об этом подробно писал в
своих работах Б. М. Эйхенбаум. Этому вопросу также посвящена интересная статья
П. Попова «Стиль ранних повестей Толстого», помещенная в № 35— 36
«Литературного наследства».
Относительно Стерна и Тёпфера
Толстой сам пишет в своих воспоминаниях (1903), что в «Детстве» и «Отрочестве»
находился под их влиянием. Относительно же того, что в этих произведениях он
кое-чем обязан также Руссо и Диккенсу, существуют убедительные доказательства,
имевшие место еще в прижизненной Толстому критической литературе. Они были
усилены советскими исследователями, например Б. М. Эйхенбаумом и П. Поповым.
В статье П. Попова совершенно
наглядно показано, как Толстой, накапливая литературный опыт, в работе над
«Детством», от редакции к редакции, уменьшал количество отступлений в манере
Стерна. Да и у самого Толстого мы находим признание (запись в дневнике от 10
августа 1851 года), что «дурная привычка к отступлениям» мешает ему писать, он
объясняет эту привычку зависимостью от Стерна, которого называет своим любимым
писателем.
Автор статьи «Стиль ранних повестей Толстого»
приводит большое количество примеров, указывающих на то, что в
автобиографических повестях Толстой воспользовался отдельными приемами Тёпфера, Руссо и Диккенса. Герой романа Тёпфера
«Библиотека моего дяди», школьник Жюль из окна
впервые познает еще неизвестный ему мир. Герой толстовских «Четырех эпох
развития» поступает сходным образом. Да и в окончательных редакциях «Детства»
и «Отрочества», как вполне основательно доказывает П. Попов, Толстой не
отказался от этого приема, хотя и видоизменил его[4].
Интересны и убедительны в статье П. Попова
сопоставления Толстого также с Руссо и с Диккенсом. С Руссо Толстого связывают
некоторые идеологические моменты, а помимо того — черты автобиографичности в
самом стиле, с Диккенсом — преломление изображения сквозь сферу воспоминаний,
теплота человеческого отношения к прошлому.
Все эти наблюдения, часть которых
подкрепляется воспоминаниями самого Толстого, очень важны и интересны.
Однако тот факт, что Л. Н. Толстой
воспользовался приемами Стерна и Тёпфера, Руссо и
Диккенса, не объясняет нам самого Толстого, силы и значения созданных им
произведений. Дело ведь обстояло не так, что он сначала усвоил известные
литературные приемы, а потом поставил перед собой определенную художественную
задачу и при их помощи решил ее. Напротив, задача возникла раньше, а приемы
вырабатывались в ходе ее решения. И на первых порах, создавая свое первое и к
тому же значительного объема произведение, Толстой упорно изучал мастерство
близких ему писателей. Он вполне сознательно шел на это, ибо задача-то у него
была своя, и он отдавал себе отчет, что ни у кого не окажется в плену,
что своя задача приведет и к своим приемам.
В
день, когда Николеньке
Иртеньеву
исполнилось десять лет, он «получил такие чудесные подарки» и у него, по
всей видимости, было
такое чудесное настроение. Но
повесть начинается все-таки не с этого дня. О нем косвенно упоминается в
первой, по-толстовски сложной фразе, сообщающей, как
учитель Карл Иванович в семь часов
утра разбудил Николеньку,
ударив хлопушкой над самой его
головой. Это случилось на третий
день после дня рождения. Удар был неловкий — Карл Иванович задел
хлопушкой образок ангела,
висевший на спинке кровати, убитая муха упала прямо Николеньке на
голову. Николенька был встревожен. Он рассердился на Карла Ивановича.
«Положим,— думал я,— я маленький, но зачем
он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? Вон их
сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит.
Только о том и думает всю жизнь,— прошептал я,— как бы мне делать неприятности.
Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не
замечает... Противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие
противные!» (1, 3).
Это — детство! Но оно уже не совсем
безмятежное. Может быть, оно и было таким, когда Николенька не достиг еще
десятилетнего возраста. Чудесные подарки, полученные им всего только три
дня назад,— это уже область воспоминаний. А вот инцидент с потревоженным
образком и упавшей на голову убитой мухой — это действительность. Николеньке
не хочется мириться с этой беспокойной действительностью, он хочет соединить в
одно гармоничное целое воспоминание и действительность.
Мы впервые видим Николеньку пробуждающимся
от сна,— и пробуждающимся, так сказать, насильственно, от звука удара хлопушки
и от упавшей на его голову убитой мухи. Но перед нами не просто пробуждающийся
Николенька,— перед нами Николенька с пробуждающейся мыслью.
С этого начинается первая повесть
Толстого. Это поистине гениальное начало,— и не только для этой повести, для
всего Толстого.
Тревожное, беспокойное состояние пришло к
Николеньке вместе со способностью оценивать и анализировать поступки, мысли и
чувства других людей и самого себя. Аналитическая способность растет в нем с
каждым, пускай и самомалейшим столкновением его с миром. Удар Карла Ивановича
хлопушкой над его кроваткой — это большое событие в жизни Николеньки. С этого
события, собственно, начинается его сознательная жизнь.
Второй, еще более значительный случай —
история со скатертью, облитой квасом. Дело было за обедом. Наливая себе квасу,
Николенька уронил графин и облил скатерть. Maman
обратила на это внимание Натальи Савишны, любимчиком
которой был Николенька. После обеда Наталья Савишна
поймала Николеньку и начала тереть по его лицу мокрой скатертью, приговаривая:
«Не пачкай скатертей, не пачкай скатертей!» Николенька, освободившись от нее, с
возмущением рассуждал: «Как! — говорил я сам себе, прохаживаясь по зале и
захлебываясь от слез. — Наталья Савишна, просто Наталья,
говорит мне ты, и еще бьет меня по лицу мокрой скатертью, как
дворового мальчишку. Нет, это ужасно!» (1, 38).
Оба случая явились своего рода
потрясениями для героя, для его сознания. Его детский ум и детская душа впервые
столкнулись с тем, что, с его точки зрения, было несправедливостью. И
это после того, как ему были подарены чудесные игрушки. Николенька не хочет
мириться с таким обстоятельством. Он ищет гармонии и, как ему кажется, находит
ее.
Оказывается, Карл Иванович совсем не злой,
а, напротив, очень добрый человек и очень, очень любит Николеньку. В этом
Николенька убеждается несколькими минутами позднее. И ему стыдно признаться,
что он мог так плохо думать о Карле Ивановиче. С Натальей Савишной
дело доходит до объяснения. Она даже просит прощения у Николеньки за свой
поступок. Оба случая заканчиваются умилительными слезами героя.
Примирение Николеньки с Карлом Ивановичем
и Натальей Савишной означает многое. Его вера в их
любовь к нему восстановилась, с другой стороны, и его любовь к ним, сильно
поколебленная указанными происшествиями, обрела снова свою силу. Казалось бы,
Николенька вернулся к прежней безмятежности.
Но это не совсем так. Его новая любовь к
Карлу Ивановичу была как бы любовью-раскаянием. В нее уже вошел элемент
горечи, сознания своей неправоты перед ним. Это не могло не сделать его
отношения к миру более пристальным. Ведь он уже ошибся в своих суждениях, значит
надо, чтобы в дальнейшем не было подобных ошибок. Аналитическая способность его
ума, следовательно, росла, и мы убеждаемся в этом на каждом шагу.
Случаи с Карлом Ивановичем и Натальей Савишной в общем стоят в одном
ряду. Другой ряд событий, также сопровождающийся ростом сознания героя, предстоит
перед нами в главах «Maman», «Папа», «Классы» и т. д.
Николенька уже хорошо понимал, что Карл Иванович и Наталья Савишна
обязаны служить ему. Он знает разницу между собою и дворовым мальчишкой. Это,
конечно, тоже свидетельство роста его сознания,— хотя и в определенном
направлении.
Однако и наблюдения над самыми близкими
людьми нередко омрачают его ум и душу.
Глава «Maman» — вторая по порядку, идущая вслед за
той, в которой описана история с убитой мухой. Образ maman для Николеньки — олицетворение самого лучшего,
что есть в мире, символ добра, справедливости и красоты в человеческих
отношениях. Тем не менее первое появление maman на
страницах повести окрашено в грустные тона. Николенька видит ее за чаем, потом
во время разговора с Карлом Ивановичем. Говорят они о детях. Maman замечает, что
Николенька плакал, и она спрашивает его, какие тому были причины. Он отвечает неправду, отчасти повторяя
ту ложь, которую выдумал в ответ на такой же вопрос Карла Ивановича. Карл
Иванович, очевидно, догадывается о его состоянии. Он «подтвердил» его «слова,
но умолчал о сне» (1,10). Едва ли все это ускользнуло и от внимания такой чуткой maman.
Узел, завязавшийся в первой главе, все
более запутывается. Даже такая чуткая, такая добрая maman не смогла
распутать его. Она посылает детей к отцу, просит их передать ему, чтобы тот
зашел сначала к ней, а потом бы уже шел на гумно. В самой этой просьбе есть
что-то такое, что не могло не насторожить Николеньку.
В главе «Папа», третьей по порядку,— уже
целая драма. В кабинете отца дети застают приказчика Якова.
Между отцом и им — напряженный разговор. «Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы (Якова.
— Б. Б.), и
наоборот: когда папа замолкал, и пальцы останавливались; но когда Яков сам
начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали
в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно бы было угадывать тайные
мысли Якова; лицо же его всегда было спокойно — выражало сознание своего
достоинства и вместе с тем подвластности, то есть: я прав, а, впрочем, воля
ваша!» (1, 10).
Спор между отцом и приказчиком идет из-за
денег. Николенька, несомненно, кое-что уже понимал. Ведь ему десять лет. И он
не мог не огорчиться по поводу происходящего. Наконец он узнает, что его и
Володю отец решил отправить в Москву к бабушке. Отец строг с мальчиками, говорит,
что они перестали быть маленькими, что им пора уже бросить бить баклуши в
деревне, что время уже начать серьезно учиться. Но самая большая неприятность —
предстоящая разлука с матушкой и с Карлом Ивановичем. Он догадался, что Карла
Ивановича отец собрался уволить.
Не так еще давно о повести Толстого
«Детство» писали у нас как о произведении, которое поэтизирует помещичью
усадьбу, в идиллических красках изображает дворянского мальчика. Трудно
представить себе более неверное представление об этом произведении.
Мир, который видит Николенька Иртеньев, полон тревог и неожиданностей, в нем нет
равенства и согласия между людьми, нет искренности и доверия. Пробудившееся
детское сознание всюду натыкается на факты, которые его озадачивают, ставят в
тупик. Пока Николенька большей частью воспринимает все это как отклонение от
нормы, надеется на то, что норма будет восстановлена, цепляется за всякую
возможность вернуть миру гармоничность, которою он, по его мнению, должен
обладать. Он верит в эту гармонию, и его сознание, аналитическая сила его ума
пока еще не подорвала этой веры. Сам помирившись с
Карлом Ивановичем и с Натальей Савишной, он надеется
на то, что и во всех других подобных случаях можно достигнуть того же самого.
И действительно, недоразумение, возникшее между отцом и Карлом Ивановичем,
также устраняется.
Все это не приносит полного покоя душе
Николеньки Иртеньева. Она по-прежнему охвачена
тревогой, и мысль его работает все более напряженно. Появляется юродивый
Гриша, он дает новый повод для споров между отцом и матерью. В то время как maman полна к нему сочувствия, отец говорит о нем с ненавистью.
Николеньку раздражают также замечания гувернантки Мими,
ее жеманство, требование обязательно говорить только по-французски. И, может
быть, поэтому он с таким нетерпением думал об охоте. Сама охота — это первая
разрядка положения, которое сделалось почти невыносимым. Внимание Николеньки
было отвлечено на другие предметы. Выехали в поле, увидели крестьян, жнущих
высокую рожь. Все здесь было так ново и так прекрасно. Открывались неведомые
просторы и неизведанные богатства мира.
«Говор народа, топот
лошадей и телег, веселый свист перепелов, жужжание насекомых, которые неподвижными
стаями вились в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи
различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по светло-желтому
жнивью, синей дали леса и бело-лиловым облакам, белые паутины, которые носились
в воздухе или ложились по жнивью,— все это я видел, слышал и чувствовал»
(1,23).
Вторая разрядка — игра. Глава об игре идет вслед за главой
об охоте. Но это, собственно, не только разрядка. Володя начал
скептически относиться к игре. Он важничал, капризничал, говорил, что ему
скучно. В частности, когда дети, сидя на земле, изображали из себя рыболовов,
Володя сидел в позе, которая не имела ничего общего с позой рыболова. Это было
худо. На этом кончалась игра. И Николенька с грустью спрашивал себя: «А
игры не будет, что ж тогда остается? ..» Его пугает
переход в мир взрослых людей, в мир больших, как он выражался. Этот мир
теперь казался ему не таким уж привлекательным.
«Детство» разделяется на две почти равные
половины. В первой половине действие происходит в усадьбе, во второй в Москве,
в последних главах описана смерть maman, ее похороны
и грустные размышления героя.
Композиционный центр повести
— глава XV (всего в повести
двадцать девять глав). В ней развивается главный идейный и художественный мотив
произведения. В предшествующих четырнадцати главах описаны события одного дня.
Это был последний день, проведенный в усадьбе. Говоря строго, он был последним
днем той поры детства, которая так дорога была Толстому.
Во второй половине повести описан также
всего только один день московской жизни Николеньки. К тому времени он почти
уже месяц прожил в Москве. Значит, это уже был не совсем тот Николенька, каким
он был в усадьбе. Московский день Николеньки начинается со стихов, посвященных
бабушке. В стихотворении были такие строчки:
Стараться будем
утешать
И любим, как
родную мать.
Задумавшись над этими словами, Николенька
начинает доискиваться, как он мог написать их. Они представляются ему ложными
по отношению как к матери, так и к бабушке. В самом
деле, сказать, что он любит бабушку так же, как мать, значит либо сознаться,
что он уже не любит мать, как любил ее прежде, либо допустить неискренность по
отношению к бабушке.
Глава XVI, с которой Николенька начинает рассказ о
своей московской жизни, дает тон всему повествованию об этом периоде.
Интересно, что глава названа «Стихи». Николенька ловит себя на неискренности в
отношении к самым близким людям. Стихи, с точки зрения Толстого, тот род
литературы, в котором легче всего впасть в неискренность. Правда, Николенька
уже дома, в усадьбе солгал maman, которая спросила его о том, почему он
плакал. Но то была ложь по необходимости (он придумал сон, что его мать
умерла). Здесь же, в Москве, он лжет, не имея к тому никаких причин.
Искренность здесь — редкая гостья. Николенька даже перестал удивляться
неискренности. За месяц он, видимо, многое узнал. Московские главы повести
носят преимущественно разоблачительный характер. Наряду с неискренностью в них
разоблачается тщеславие, высокомерие, социальная рознь.
Вот княгиня Корнакова. Это «была женщина лет сорока пяти, маленькая,
тщедушная, сухая и желчная, с серо-зелеными, неприятными глазками, выражение
которых явно противоречило неестественно-умильно cложенному ротику» (1,150). Она сразу привлекла внимание Николеньки. Он
отметил какую-то неестественность и настороженность в ее поведении. Бабушке
княгиня явно не нравится, тем не менее бабушка дала ей
поцеловать свою руку. Разговор между ними сразу принял оборот, крайне
заинтересовавший Николеньку. Княгиня рассказывала о том, как она обращается со
своими детьми. Она не скрывала, что сечет их. И отец заставляет Николеньку
поцеловать у нее руку! Исполняя приказание отца, Николенька «с чрезвычайной
ясностью воображал в этой руке розгу, под розгой — скамейку, и т. д. и т. д.»
(1,52).
Так Николенька начинает постигать тайну
сложных человеческих отношений. Первые шаги в этом направлении он сделал еще у
себя дома, в усадьбе, в частности слушая разговор между отцом и приказчиком
Яковом. В главе X
(«Что за человек был мой отец?») перед нами сложный человеческий характер,
понятый и объясненный как в психологическом, так и в социальном аспекте. В
главе XVIII («Князь Иван
Иванович») мы сталкиваемся с подобным же случаем. Князь Иван Иванович, как и
отец Николеньки, отличается большим умением вести себя в свете. Он годами
выработал в себе эту привычку. И если отец Николеньки, человек не очень богатый,
овладел искусством производить наивыгоднейшее
впечатление о себе, то князю Ивану Ивановичу требовалось совсем другое
качество — способность оградить себя от заискивающих и нуждающихся в нем людей.
Он сумел это сделать не хуже, чем то, что делал в
своих интересах отец Николеньки. Оба они, конечно, не знали, что такое
искренность. Родственность их натур подчеркнута, в частности, тем, что князь
Иван Иванович, узнав от бабушки Николеньки о дурном поведении его отца, не
осуждает этого человека, говорит, что он добрый и прекрасный муж, благородный и
порядочный человек.
Разговор бабушки с княгиней Корнаковой, а потом с князем Иваном Ивановичем — это самые
большие человеческие и социальные откровения для Николеньки в период его жизни
в Москве. Здесь он даже как бы выходит за грань своего детского мира. Затем
идут главы, в которых рассказано о его детских приключениях. Основное в них —
его дружба с Сережей Ивиным, его детская любовь к
Сонечке Валахиной и детские игры, в которых наряду с
другими принимал участие Иленька Грап,
мальчик из бедной семьи.
Сережу Ивина Николенька обожал, был в
восторге от него, но тот так и не узнал об этом ничего, ибо Николенька,
стараясь подражать большим, ничем не выказал своих чувств. «Я не только
не смел поцеловать его, чего мне иногда очень
хотелось, взять его за руку, сказать, как я рад его видеть, но не смел даже
называть его Сережа, а непременно Сергей: так уж было заведено у нас. Каждое
выражение чувствительности доказывало ребячество и то, что тот, кто позволял
себе его, был еще мальчишка. Не пройдя еще через те горькие испытания,
которые доводят взрослых до осторожности и холодности в отношениях, мы лишали
себя чистых наслаждений нежной детской привязанности по одному только странному
желанию подражать большим» (1, 58—59).
Иленьку Грапа мальчики
круга Николеньки Иртеньева избрали предметом насмешек
и издевательств. Николенька не отстает от своих друзей, однако минутами чувствует,
что поступает дурно, и на сердце у него неспокойно.
Тема любви к Сонечке Валахиной
занимает три главы — «До мазурки», «Мазурка» и «После мазурки». Эти главы —
высший подъем по-детски счастливого отношения Николеньки к миру, на этих же главах
круто и бесповоротно обрывается его детство.
Впрочем, сама любовь к Сонечке явилась для
него знаком намечающегося перехода из одного возраста в другой. Любовь к Сереже
Ивину, мальчику, своему товарищу, Николенька называет теперь изношенным чувством
привычной преданности, а любовь к Сонечке — свежим чувством, исполненным
таинственности и неизвестности. Это новое чувство, нехарактерное для детства,
хотя Николенька любит Сонечку еще по-детски. Он сравнивает свою любовь к
Сонечке с любовью к Сереже, не видит несходства между той и другой любовью. Тем
не менее предпочтение отдает он любви к Сонечке. Сама
эта любовь вводит его в другой мир, дотоле остававшийся неизвестным. Но и этот
новый мир, на порог которого только что вступал Николенька, встречал его и
новыми радостями и новыми тревогами.
Он был встревожен еще «до мазурки», так как
у него не оказалось необходимых для этого случая перчаток. И тут он вспомнил о
Наталье Савишне. Будь она здесь или, вернее, будь он
там, где она, у него не было бы затруднений, она достала бы для него перчатки.
А тут о нем некому позаботиться, так как каждый занят собою. Мазурка сделалась
для Николеньки тяжелым несчастьем, — он не умел танцевать, как принято в
Москве, и потому попал в неловкое положение. Многие смеялись над ним, другие
смотрели с состраданием. Родной отец — тот сердито заметил, что коли он не умеет танцевать, то и не надо этого делать.
«— Господи! за что ты наказываешь меня так
ужасно!» (1, 72).
Вот какие слова вырываются у Николеньки
после мазурки. Он несчастен, ему кажется, что для него закрыты дороги к
дружбе, любви и счастью. А все это оттого, что он так серьезно, так глубоко
относится ко всему — не так, как другие, которые не делают из своих поступков
никаких проблем. Для Николеньки же Иртеньева каждый
его поступок — большая и сложная проблема.
Вообще в течение всего этого вечера
Николенька лишь наполовину здесь, вместе со всеми остальными; другая его
половина там — в родном доме, вместе с maman,
Натальей Савишной, Карлом Ивановичем. Его воображение
уносится в те края. «Я вспоминал луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд,
над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые,
прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена, и еще много спокойных радужных
воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении» (1, 72).
Ему кажется, что он изменяет тому миру,
и он действительно изменяет ему. Он рассказывает Сонечке о смешных чертах
Карла Ивановича, а спустя несколько минут
смотрит на этот свой рассказ как на измену, недостойный поступок.
Словом, все в нем взбудоражено, будто он
находится во власти какой-то новой стихии, которая еще не совсем понятна ему.
Эта новая стихия — приближающаяся новая стадия человеческого возраста.
В последних главах повести мы
видим Николеньку снова в деревне, в усадьбе, где протекли первые десять лет его
жизни. Он переживает большое потрясение — смерть maman.
В состоянии потрясения, которое сделало его особенно зорким ко всему
окружающему, он подводит итоги своему детству, формулирует то, что ему дал его
предшествующий жизненный опыт. Первый цикл земных радостей и испытаний закончен.
Впереди новая, более широкая дорога жизни. Герой прощается с теми, кто был
наиболее близок ему при вступлении его в жизнь — с maman
и с Натальей Савишной. Обе они уже оставили этот мир,
который для него только что начинается.
Как человек входит в мир и как этот мир
встречает его своими необыкновенными радостями и одновременно бесконечными
тревогами — такова в самом общем виде тема первого произведения Толстого. Герою
повести вначале кажется, что радости — это норма жизни, закон ее, а горести и
тревоги являются отклонением от нормы, какими-то временными недоразумениями,
от которых люди легко могут избавиться, стоит им только захотеть. Но чем больше
такого рода недоразумений встречает он, тем настороженнее начинает относиться к
ним, пока в конце концов не поймет, что они вытекают
из самой сущности отношений между людьми того круга, к которому принадлежит и
он сам. Таким мы видим героя в последних главах повести. В нем начинает
развиваться чуткость к социальной несправедливости, хотя от этого чувства и очень
далеко до сознательного протеста не только герою повести, но и самому Толстому
этих лет.
Жизнь и человек — вечная тема всей мировой литературы. Но
жизни вообще нет, а есть лишь жизнь различных народов, в своей
совокупности представляющих человечество. То же самое можно сказать и о человеке:
он существует лишь как представитель той или иной нации, его сущность
всегда является выражением тех или иных социально-исторических условий. Нет
такой литературы, которая не смотрела бы на свой народ как на часть
человечества. Нет и не было народа, целиком замкнутого
в самом себе. Весь вопрос в том, в какой, степени представляет он собою
общечеловеческие начала, а с другой стороны, насколько данной
национальной литературе доступна его связь с общечеловеческими началами.
Все, о чем мечтали передовые умы на
протяжении всей истории, все, к чему стремились людские массы, усилиями
которых делается история, — все эти вопросы были поставлены в повестку дня всем
ходом русской жизни в XIX веке, особенно в его второй половине, как требующие неотложного
решения.
В свое время много писали о
восприимчивости русской натуры. Если подойти к этому с учетом исторических
обстоятельств, все станет понятно: передовые деятели русской культуры
осознавали связь вопросов, встававших и перед Россией, с историческим опытом
всего человечества. В этом разгадка, почему Пушкин так часто обращался к темам
мировой истории. В последующее время передовые русские мыслители и художники
все глубже раскрывали значение России в развитии всего человечества.
Толстой многим обязан западноевропейским писателям. Но он
относился к ним не как «ученик» к «учителям», а как художник, решающий
проблемы, которые касаются и России и всех других стран.
Оригинальность Толстого бесспорна и
очевидна в его первой повести, на которой еще очень заметны следы литературных
влияний.
Для Тёпфера
детство «утрачено навсегда», для Диккенса — от него не осталось «ни малейших
следов»; Толстой же заканчивает свое лирическое отступление о красоте детства
вопросом: «Неужели остались одни воспоминания?»
Нет, он с этим не согласен.
Для Толстого детское морально
чистое и непосредственное отношение к миру является той нормой, которую
навсегда должен сохранить в себе человек. При этом Толстой был далек от того,
чтобы видеть только отрицательные стороны в последующих этапах развития человеческого
духа. Пожалуй, единственной мрачной полосой в жизни человека он считал отрочество.
К юности же и к молодости он относился едва ли не с таким же
восторгом, как к детству.
Каждый возраст, с его точки
зрения, представляет собою свою особую прелесть и открывает человеку мир с
новой, прежде неизвестной стороны. Толстой видел и в старости свою поэзию[5].
Он отстаивал такое понимание человека, которое учитывало необходимость
сохранения опыта духовной и практической жизни каждого его возраста,
постоянного соединения прошедшего с настоящим. По Толстому, ни
одна страница человеческой жизни, даже ни один поступок, совершённый
человеком, не должен оставаться для него только воспоминанием. Каждое пережитое
и переживаемое мгновение в известном смысле равноценно для человека, ибо он не
имеет права отдавать предпочтение будущему перед настоящим или прошедшим
и, таким образом, упускать хотя бы самую
малую толику времени, в течение которого ему надлежит выполнить свое
человеческое предназначение. Каждую минуту он обязан жить всей полнотой жизни,
а для этого ему необходимо вбирать в себя все крупицы своего многообразного
опыта.
Герой Толстого всякую минуту иной, ибо
вся его жизнь есть движение к высокой цели, но вместе с тем он всегда тот же
самый, ибо он стремится сохранить в себе и развить весь человеческий итог
своей жизни и освободиться от всего привнесенного в нее античеловечного
груза.
Детство, с этой точки зрения, есть своего
рода норма и образец человеческого поведения по той причине, что в детском
возрасте человек непосредственно, чувствами усваивает положительные,
истинно человеческие стороны в отношениях близких ему людей и поэтому сам
наиболее человечен.
Однако Толстой, стремясь
сохранить такое детство, в высшей степени остро чувствует и невозвратимость
его. «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!» — так начинается
знаменитый лирический монолог автора в повести. Последующие эпохи развития Толстой
измеряет этим невозвратимым образцом, а перед молодостью ставит задачу
— сознательно найти цель жизни, выражающую итог всего предшествовавшего развития.
Этим достигается единство героя трилогии, хотя такая цель не
была им найдена, а «Молодость» —
не была написана.
Мировая литература до Толстого еще не
знала героя, который был бы настолько занят самим собой и при этом отдавал бы
всего себя служению человечеству. Толстовский герой рассказывает о своей
жизни, не деля никак ее события на более и менее
важные. Все они для него равнозначны. Его по преимуществу интересуют факты
сугубо личного характера. В этом смысле мы почти все время находимся в сфере
повседневности. И при всем том перед нами развертывается величественная картина
становления человеческого духа, картина отношения человека к миру.
В «Детстве» особенности толстовского
реализма проступают со всей очевидностью. Вообще, автобиографическая трилогия
— вещь чрезвычайно конструктивная. И это понятно: здесь ведь поставлена цель на
частном примере, на биографии отдельного человека выявить общие законы
становления человеческой личности. Эта конструктивность
автобиографической трилогии и облегчает и одновременно затрудняет ее анализ.
Движение сюжета и самого человеческого характера здесь ощутимо почти до
наглядности, но тут возникает прямая опасность впасть в схематизм.
Резкая конструктивность композиции вещи
создает благоприятные условия для выявления структуры толстовского реализма.
Повесть начинается с такого момента в
жизни героя, когда впервые нарушена гармония его внутреннего состояния. Тут
же, спустя несколько минут, гармония восстанавливается.
В дальнейшем такие нарушения то и дело происходят, но до некоторого времени они
представляются герою случайностями, простыми недоразумениями. Неприятный
разговор между отцом и Яковом Михайловым, то есть между помещиком и его
приказчиком, Николенька воспринимает именно как досадное недоразумение.
Еще большим недоразумением кажется ему
инцидент, возникший между его отцом и Карлом Ивановичем.
Инцидент этот был тем более неприятен, что
отца и Карла Ивановича он «почти одинаково любил». Николенька пытается своими
детскими усилиями «восстановить между ними согласие» (1,15). И оно было на время восстановлено, хотя он тут был
ни при чем.
Но чем дальше, тем меньше остается у
Николеньки надежд на то, что от всех недоразумений, наступающих на
него, так легко можно избавиться. И детский ум его направляет усилия в другую
сторону — Николенька намеренно ищет таких положений, которые отсрочили бы
необходимость разобраться в трудных для него вопросах и оставили бы пока в
нерушимости гармонию его духовного мира (главы «Охота», «Игра»). Это тоже
определенный этап в его духовном развитии. Пребывание в Москве кладет конец
такому состоянию. В московских главах Николенька показан как мальчик, умеющий
видеть связь между человеческими качествами того или иного человека и его
положением в обществе. А ведь он всего только около месяца прожил в Москве.
Значит, это свойство назревало в нем, когда он был еще у себя в усадьбе.
Он уже не ставит себе задачи «исправить»
княгиню Корнакову, не может найти в себе силы
признаться Сереже Ивину в лучших к нему чувствах, огорчен отношением своих
товарищей и своим собственным к Иленьке Грапу, смущен и озадачен инцидентом между сыном княгини Корнаковой и лакеем и т. д.
В московских главах сквозит уже мысль о
ненормальном устройстве общества; в описаниях усадьбы об этом можно было
только догадываться.
В процессе работы над повестью Толстой
отклонил конфликт, намеченный в первой редакции ее, — конфликт между патриархальностью
и новыми, в сущности, буржуазными веяниями. В окончательном тексте «Детства»
спор между отцом и матерью Николеньки о том, отдавать ли детей в коммерческое
училище (точка зрения отца) или в университет (точка зрения матери), отсутствует;
в связи с этим отец обрисован просто как человек чуждый миру патриархальности.
Однако если отец — чужеродное
тело среди мира, в котором протекли детские годы Николеньки, то князь Иван
Иванович, можно сказать, центральный нерв мира московского. Следовательно, каков
князь Иван Иванович, таков и этот мир. В отличие от отца Николеньки, он
обладает высшим образом мыслей, твердо исполняет основные правила
религии и нравственности, но в силу своего видного положения, из-за которого
его одолевают всякими просьбами, он к людям холоден и равнодушен, его душа
закрыта для них. В своих отношениях к нему они выглядят жалкими, недостойными
уважения.
И, глядя на все это,
наблюдая за князем Иваном Ивановичем, за тем, в частности, как «многие молоденькие
и хорошенькие дамы охотно подставляли ему свои розовенькие
щечки, которые он целовал как будто с отеческим чувством» (1, 55), Николенька Иртеньев, как герой повести и как рассказчик, не мог не
сделать для себя вывода относительно неестественности и неискренности в
отношениях между людьми, среди которых он теперь жил. Исключая бабушку и князя Ивана Ивановича,
всех остальных взрослых он оценивает отрицательно. Они возмущают его своим
раболепством, в частности перед тем же князем Иваном Ивановичем. Бабушка и
князь Иван Иванович держатся с достоинством, ни перед кем не заискивают. Этим
они и нравятся ему. Но его критика не щадит и их. Мы уже видели, какой силой
трезвости отличается его взгляд на князя Ивана Ивановича.
Московская жизнь Николеньки внезапно
обрывается известием о болезни maman. Николенька возвращается в усадьбу, где
на его глазах умирает мать. Он потрясен ее смертью. Горе еще более обострило
его способность видеть людей такими, каковы они в действительности. Люди лгут,
даже когда они стоят перед открытым гробом. Николеньку огорчал вид отца,
который был слишком эффектен для такой минуты; его возмущала Мими с ее притворными рыданиями; все посторонние были для
него несносны. «Какое они имели право говорить и плакать о ней?» (1, 87). И, может быть, больше
всего Николенька был недоволен самим собою. Он и сам был заражен тем же
недугом, что и все остальные, то есть склонностью казаться иным, чем был
на деле. Даже бабушку, и ту Николенька заподозрил в притворстве, хотя он знал,
что ее горе поистине беспредельно. Лишь горе одной Натальи Савишны
не вызывает у него никаких сомнений.
Над всеми известными
Николеньке Иртеньеву людьми высоко поднимаются два
образа — образ maman и образ Натальи Савишны. Образ maman идеален. Мaman не замешана в деловые
отношения между людьми. Она представляется Николеньке такой, как будто ничто
земное ее не коснулось. Эти ее свойства тем ярче выступают, что ее муж — отец
Николеньки — прямая противоположность ей, человек, лишенный и малой доли
идеального. Идеальность maman подчеркнута при первом
же ее появлении.
«Матушка сидела в гостиной и разливала
чай; одной рукой она придерживала чайник, другой — кран самовара, из которого
вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она
не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли» (1, 8).
Как ни часто затем вспоминал Николенька maman, он видел «только ее карие глаза, выражающие всегда
одинаковую доброту и любовь», видел родинку на шее, нежную сухую руку, которая
его так часто ласкала. Кроме того, Николенька запомнил улыбку maman. Общее выражение ее лица ускользало от него. В
литературе о Толстом это последнее обстоятельство чаще всего объясняют тем,
что Толстой не мог запомнить лица своей матери, умершей
когда ему не было еще двух лет. П. Попов в статье «Стиль ранних повестей Л. Н.
Толстого», опубликованной в № 35—36 «Литературного наследства», полемизирует
с этой точкой зрения. Он говорит об особой художественной функции образа maman, этим объясняет, так сказать, «бестелесность» ее
образа. Я думаю, это близко к истине. Внешним обликом maman
Толстой хочет, указать на ее непричастность к запутанным материальным
отношениям людей.
Образ Натальи Савишны героичен. Она самоотверженно
несет бремя, возложенное на нее жизнью. Толстой рисует ее как верную и
преданную слугу своих господ. Ей запретили выйти замуж за
Фоку, дворового человека, которого она любила, и она
даже не обиделась за это на своих господ. И все-таки было бы глубоко
неправильно думать, что, создавая образ Натальи Савишны,
Толстой хотел показать лишь то, насколько губит человека его зависимое, в
сущности, рабское положение. Наталья Савишна —
единственный до конца искренний человек из всех людей, с которыми сталкивался
Николенька Иртеньев. Maman
не в счет, ибо она осталась в стороне от всех земных дел. Наталья Савишна служит своим господам не за страх, а за совесть. В
этом рабском служении видит она свое человеческое назначение. Однако
нельзя сказать, что в ней рабские чувства взяли верх над человеческими.
Когда ей, после ее двадцатипятилетнего служения своим господам, была
предложена вольная и, кроме того, ежегодная пенсия в триста рублей, она
наотрез отказалась и от того и от другого, восприняв это предложение как самую
тяжкую обиду. Она любит maman и ее детей, как близких
и родных, уверенная, что и они платят ей тем же.
Образ Натальи Савишны, как крепостного человека, в общепринятом смысле
нетипичен. Но в такой же, если не в еще большей, степени, с этой точки зрения,
нетипичен и образ maman.
Вообще, толстовские герои по-особому
типичны. Они не только и не столько олицетворяют собою те или иные
общественно-исторические явления, сколько, так сказать, переживают их, чаще
всего в той или иной мере возвышаются над ними. Сам Николенька Иртеньев тоже не является типическим представителем
дворянской молодежи в обычном смысле этого слова. Он всей своей жизнью хочет
преодолеть состояние, характерное для нее.
Наталья Савишна
— слуга своих господ, и она понимает это, понимает также и то, как нехорошо
быть только слугой и не быть человеком. Но она не может перестать
быть слугой, у нее даже и мысли на этот счет не появляется. Ей, стало быть,
остается одно — не переставая быть слугой сделаться и человеком. И
она достигает этого. Maman представляет собою, так
сказать, чистую человечность потому, что сохраняет полную непричастность к
социальной, помещичьей, практике. Наталья Савишна — человек в высшей степени практический. Она с большим усердием и с
большим успехом хранит барское добро. После смерти своей госпожи, переживая эту
утрату более глубоко, чем сама бабушка Николеньки, Наталья Савишна сделалась даже еще строже как ключница. Смысл
этого такой: горе не мешает человеку исполнять свой долг. В том-то и дело, что
Наталья Савишна смотрит на свою службу как на
исполнение своего человеческого долга. Это было возможно при условии,
что к ней также по-человечески относятся, видят в ней
прежде всего человека.
Так между maman
и Натальей Савишной, между барыней и ее прислугой,
как бы поверх социальных условий устанавливаются человеческие отношения.
Но социальные условия при этом остаются в полной силе. Наталья Савишна знает свое место, как слуга Иртеньевых.
Maman удивилась бы, если бы ей сказали, что они равны
с Натальей Савишной. Как будто между ними заключено
соглашение, чтобы одна видела в другой равного себе человека, но вместе с тем чтобы каждая занимала отведенное ей социальными
условиями место. Николенька, разумеется, тоже участник этого соглашения.
Но всякое соглашение требует от обеих
сторон точного его исполнения. Об этом, в частности, говорит эпизод с мокрой
скатертью. Николенька провинился, замочив квасом скатерть. Наталья Савишна, очевидно при поддержке maman,
решила наказать за это Николеньку. Получился конфуз — Николенька сразу увидел в
Наталье Савишне всего лишь крепостную женщину. Но не
только Наталья Савишна не может нарушать соглашения.
Этого нельзя делать и Николеньке. Между тем Николенька также отступил от
принятых на себя нравственных обязательств, когда мысленно осуждал Наталью Савишну как крепостную. Чтоб вернуться к норме, потребовалось
раскаяние и с той и с другой стороны.
Таким образом, maman
и Николенька — исключения в помещичьей среде, Наталья же Савишна
— в среде дворовых. Враждебные по своему общественному положению, обе стороны
вошли в чисто человеческие отношения и не
выходя из нормы, определяемой существующими социальными условиями. Но
ведь тем самым эти последние выступили как чуждые всему человеческому, как губительные
для человека.
Враждебность человеку принципа социального
неравенства между людьми с не меньшей силой обнаруживается в образе юродивого
Гриши, этого «великого христианина», пренебрегающего всем земным. И тут, на
отношении к Грише, столкнулись в своей непримиримости взгляды на мир отца
Николеньки и maman.
Николенька прощается с
детством, находясь на кладбище. Две могилы для него одинаково дороги — могила maman и могила Натальи Савишны.
Как в жизни они могли быть только рядом одна с другой, так точно и после
смерти они оказались неразлучными в памяти Николеньки. Эти два существа привили
ему те человеческие качества, которые он стремился сохранить на всю жизнь, дабы
не отказаться от своего предназначения. С мыслью о них он стоит на пороге
нового периода в жизни человека. И он полон тоски и грусти. Он представляет
себе, как душа maman, «отлетая к миру лучшему», «с
грустью оглянулась на тот, в котором она оставляла нас...» (1,55).
Толстовская трактовка отношений между
зависимым человеком и тем, от кого он зависит, отвергает всякое угнетение и
порабощение. И это несмотря на то, что Толстой не был еще свободен от иллюзии
относительно патриархальности, которая будто бы не противоречит человечности.
Да, именно в условиях патриархальности
возможны были такие случаи, когда между барином и слугой устанавливались человеческие
отношения, хотя при этом барин оставался барином, а слуга слугою.
Но такая патриархальность уходила в прошлое, а вместе с нею уходили в
прошлое и порожденные ею иллюзии. Не случайно
Николенька прощается со своим детством на кладбище, на могилах maman и Натальи Савишны.
Если тема «Детства» —
первые радости, которые дает человеку мир, и первые разочарования в мире, то
тема «Отрочества» — неминуемый и тяжелый разлад духовно выросшего человека с
миром, разлад, от которого он порою испытывает какое-то непонятное наслаждение
и с которым вместе с тем он решительно не хочет мириться.
Конфликт, положенный в основу
второй повести, таким образом, значительно расширился, однако по своей природе
это тот же самый конфликт — конфликт между человеком и обществом. События,
описанные в первых шести главах,— это сплошь открытия
для Николеньки. Повесть начинается c поездки Иртеньевых на долгих в Москву.
Николенька смотрит на мир из окна кареты: «...новые живописные места и предметы
останавливают и развлекают мое внимание, а весенняя природа вселяет в душу
отрадные чувства — довольства настоящим и светлой надежды на будущее» (2, 4). Все привлекает внимание
Николеньки, и каждый-раз, когда он что-либо видит впервые, перёд ним возникают
вопросы, вроде следующих: откуда это? для чего это?
какое это имеет отношение ко мне?
Захваченный
дорожными наблюдениями, Николенька, не заметил, как приблизилась гроза. Удар
грома заставил его затрепетать. Он вспомнил, что крестьяне называют грозу
гневом божьим. Гнев божий страшен, но от него нельзя уклониться
и не следует уклоняться, ибо он очистителей. Действительно, высунувшись из
брички после грозы, Николенька с жадностью впитывал в себя «освеженный,
душистый воздух», любовался прекрасной, обновленной грозой и дождем природой.
И тут же, с неотвратимостью грозы, встали
перед Николенькой невиданные еще по своей сложности вопросы. Он вдруг по-новому
увидел Катеньку, дочь гувернантки. Мими, подругу его
сестры Любочки. В первый раз выражение ее лица
показалось ему совсем не детским. Николеньке стало не по себе, и он, как и в
случае, когда Карл Иванович убил муху над его кроваткой или когда Наталья Савишна потрепала его по лицу мокрой скатертью, решил, что это простое недоразумение, которое легко можно устранить.
Он обратился к Катеньке с вопросом,
завязался разговор, который был уже совсем не детским. Катенька сказала, что
они не ровня, что у них, у Иртеньевых,
есть Петровское, а ее маменька ничего не имеет. На Николеньку это
подействовало, как удар грома. «Тысячи новых, неясных мыслей... зароились в
моей голове, и мне стало так совестно, что мы богаты, а они бедны, что я
покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку» (2,14).
Все
человеческое восставало в нем против этого факта, но сам факт, тем не менее был неотвратим. Николеньке казалось нелепым
разлучаться с Катенькой только из-за того, что его отец богат, а ее мать бедна.
Не лучше ли разделить поровну, что есть у них, но оставаться все-таки вместе?—
с таким предложением он хотел обратиться к Катеньке, но все-таки промолчал,
понимая, что его желание тут ничего не означает. Так он впервые сознательно
полностью отдал себе отчет в том, что существует на свете сила, которая
разделяет людей, делает их чужими друг другу, даже если они и хотели бы
оставаться близкими.
Казалось бы, значение разговора Николеньки
и Катеньки сводится к тому, что оба они уяснили себе различие в их положении в
обществе и что, следовательно, тем самым вступили в новую фазу своего духовного
развития. Так чаще всего и трактуется эта сцена. В действительности же мысль,
заключенная в ней, более глубока, и, не выяснив ее сущности, мы не заметим,
может быть, самого главного, наиболее характерного признака толстовского
реализма.
Николеньке тяжело сознавать неизбежность
разлуки с Катенькой. Но для него несравненно более тяжело убедиться в
разъединенности людей вообще, в том, что каждый человек поглощен своими
собственными интересами, думает только о себе и ему нет
дела до того, как живут и о чем думают другие люди. И Николенька почувствовал
себя так, словно он сирота в этом огромном мире, который впервые открывался
ему таким сложным и многообразным. Ему и раньше приходила эта мысль, но теперь,
в результате разговора с Катенькой, она сделалась прочным убеждением.
«Когда я глядел на деревни и города,
которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило по
крайней мере такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным
любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, на лавочников,
мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это в
Петровском, но не удостаивали нас даже взглядом, мне в первый раз пришел в
голову вопрос: что же их может занимать, ежели они
нисколько не заботятся о нас? и из этого вопроса возникли другие: как и чем
они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как
наказывают? и т. д.» (2, 15-16).
По форме, по приемам это еще рассуждение
мальчика, но по существу своему это мысль зрелого человека, увидевшего, что
связи между людьми порваны и что это ненормально, так как изолирует человека
от всего остального мира, тогда как он должен составлять единое целое с ним.
В феврале 1852 года, то есть
как раз в период напряженной работы над «Детством», Толстой писал в своем
дневнике: «Странно, что мой детский взгляд — молодечество— на
войну, для меня самый покойный. — Во многом я возвращаюсь к детскому взгляду на
вещи» (46, 90—91). И потому рассказ Николеньки воспринимается и
как достоверно характеризующий его состояние и в детские годы и в период, когда
он стал взрослым. Повесть «Детство» проникнуто и светлым тоном детского
отношения к миру, и тоном горечи, свойственным человеку, пережившему многие
утраты и познавшему многие разочарования. Это мы чувствуем и в языке, и во
всей художественной структуре повести. Это же относится и к взгляду Толстого
на войну: взгляд на нее как на молодечество — «самый покойный», но и невозвратимый
для беспокойной натуры Толстого, как само детство. И действительно,, размышления Толстого о войне не останавливаются на этом.
В какой-то мере возвращаясь к детскому взгляду на
вещи, Толстой судит о детстве как взрослый. В еще большей мере это относится к
отрочеству, которое идеалом Толстому не представлялось.
Насколько в детстве, когда герой был
окружен только близкими людьми, единство мира, слаженность и гармоничность
его должны были ему представляться как нерушимая норма, настолько теперь,
когда он увидел самых разнообразных людей и самые различные картины
действительности, переворот в его сознании стал неизбежностью.
Переворот этот окончательно
закрепился в Москве. Все сделалось не таким, каким было раньше. Конечно, ничто
само по себе не оставалось неизменным. Изменилась бабушка после смерти maman, ибо она жила теперь только горем и воспоминаниями о
любимой дочери. Изменился отец, полностью утративший интерес к своим детям.
Изменился Карл Иванович, которого дети должны были называть
теперь дядькой и который стал носить парик, закрыв им давно
знаковую лысину. Иными стали девочки — Любочка и Катенька.
Вместе с тем изменилось, и отношение Николеньки ко всему этому. Девочки, Любочка и Катенька, совсем отделились от Николеньки и
Володи, у них появились свои секреты. Изменились отношения между Николенькой и
Володей. Хотя Володя был старше Николеньки всего на год с несколькими месяцами,
он был теперь для него «старший брат» (так и называется глава, посвященная
Володе). Появилась на горизонте женщина, которая раньше была просто горничной.
Ей также посвящается отдельная глава («Маша»). Это тоже было открытие.
Все эти открытия были следствием, с
одной стороны, более широкого знакомства Николеньки с окружающим миром, а с другой
— роста его сознания, аналитической способности ума. О своей склонности к
анализу Николенька говорит несколько раз в «Отрочестве»; этой теме целиком
посвящена центральная глава повести «Отрочество».
В ней мы читаем:
«В продолжение года, во время которого я
вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные
вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже
представлялись мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался
уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой
может достигать ум человека, но разрешение которых не
дано ему» (2, 56).
И дальше, уже к концу главы:
«Склонность моя к отвлеченным размышлениям
до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная
думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей,
я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал.
Спрашивая себя: о чем я думаю? я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о
чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум
заходил...» (2,55).
Рост, аналитической силы ума как будто
сближал героя с миром, поскольку таким путем герой все больше погружался в
действительный мир. Но, погружаясь в мир, герой чувствовал нарастание
катастрофического разъединения с миром, который оказывается для него чужим.
Три главы занимает в повести «История
Карла Иваныча». Он одинок и несчастлив. Люди словно
сговорились, чтобы его отвергнуть, хотя он ничего плохого не сделал им.
Рассказ Карла Ивановича о
превратностях своей судьбы является своего рода прелюдией к злоключениям,
сквозь которые суждено было пройти Николеньке. Новый взгляд на людей, постепенно
складывавшийся у него привел и к новым отношениям с ними. Каждую свою мысль и
каждый свой поступок он бесконечно взвешивает и рассматривает с разных точек
зрения. Мечтательность и любопытство его не знают границ. В результате он плохо
готовит уроки и получает единицу, открывает без позволения портфель отца,
узнает какую-то тайну его жизни, а потом, стараясь закрыть портфель, ломает
ключик. Находясь в подавленном состоянии и в предчувствии беды, он делается
крайне подозрительным и ужасается мысли, что Сонечка Валахина
идет танцевать не с ним, а с Сережей Ивиным. Соня, конечно,
«изменница», другого имени она недостойна.
Так чаша была переполнена, и наступило затмение.
О затмении говорится так:
«Бывают минуты, когда будущее
представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на
нем свои умственные взоры, прекращает в себе совершенно деятельность ума и
старается убедить себя, что будущего не будет и
прошедшего не было» (2, 40).
Вот такие минуты и наступили для
Николеньки. В состоянии затмения он грубит своему новому воспитателю Жерому, который теперь занимался с ним вместо Карла
Ивановича. Беда приближается. Новая грубость Николеньки — и его запирают в
чулане. И вот он действительно остался наедине с самим собой. И не то что сам остался — его силою отделили от людей. Обида на
других разрастается. Тут он размечтался, и мечты его самые грустные:
«Мне отрадно думать, что я несчастен не
потому, что виноват, но потому, что такова моя судьба с самого моего рождения,
и что участь моя похожа на участь несчастного Карла Иваныча»
(2, 43).
Размышления Николеньки над вопросом о
разъединенности людей, начавшиеся после разговора с Катенькой, претворяются
для него в реальность, принявшую форму его личной судьбы: находясь среди людей,
он на самом деле остался один, сознание своего одиночества постепенно в нем
углубляется. Он все дальше отходит даже от родных — от отца и брата, от бабушки
(всем им посвящаются отдельные главы).
Словом, в кругу своих Николенька остался один. Тема одиночества человека
возникает на первых страницах повести и, нарастая, проходит почти сквозь все
произведение. Причина этого — рост сознания героя, открывшего несовершенство
человеческих отношений. Гармония его духовного мира вследствие этого была
нарушена. Он видит, что гармонии нет и в устройстве всей жизни людей. Понимание
того и другого доставляет ему тяжкие душевные страдания. Однако он считает,
что такое состояние является временным. Недаром отрочество сравнивается
им с пустыней, через которую он хотел бы поскорее пройти. Лишь в редкие минуты,
по мысли Николеньки, а следовательно и Толстого,
человек не верит ни в то, что будет будущее, ни даже в то, что было прошедшее.
Такими минутами для Николеньки были те,
когда его заперли в чулане. Но тут пришло и первое утешение. Оно пришло от
простого человека, от слуги Николая, сказавшего Николеньке, что не стоит так убиваться — «перемелется, мука будет». Как сознается
Николенька, изречение это и позже не раз поддерживало в нем твердость духа. Эти
слова обозначали какую-то надежду. Вместе с тем они как бы укрепили в
Николеньке уверенность, что ему не в чем каяться перед большими.
Вся вина им возлагалась на нового воспитателя, Жерома.
Он «был не глуп, довольно хорошо учен и добросовестно исполнял в отношении нас
свою обязанность, но он имел общие всем его землякам и столь противоположные
русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия,
дерзости и невежественной самоуверенности» (2, 50). Жером
— не русский, но для Николеньки он олицетворял собою и черты, свойственные
людям круга его отца и бабушки. Недаром Николенька говорит, что отдавал Жерому дань невольного уважения, с которым относился ко
всем большим.
Формально прав был Жером,
но по-человечески правда на стороне
Николеньки. И Николенька не уступил Жерому. Это
придало ему силы. Он оказался выше отца и бабушки, а не только Жерома. Это первое столкновение Николеньки с миром больших, и из этого столкновения он вышел
победителем.
После столкновения с Жеромом характер Николеньки начинает постепенно смягчаться,
а сфера его наблюдений расширяется. Николенька стал пристальней присматриваться
к девичьей. И не потому, что там находилась Маша, в которую он был влюблен.
Причина была совсем другая — девичья привлекала его романом Маши и Василия.
Они давно уже любили друг друга, но Маше не разрешали выйти замуж за Василия. В
результате их любовь превратилась в страдание, и эта любовь-страдание вызывала
самое горячее участие со стороны Николеньки Иртеньева.
Он сам познал, что такое несправедливость, и потому взор его обращался теперь
к людям, которые страдали от несправедливости. Так возникает у него потребность
сближения с простыми людьми. Он смело идет в их общество, приглашает читателя
последовать туда же:
«Не гнушайтесь, читатель, обществом, в
которое я ввожу вас. Ежели в душе вашей не ослабли
струны любви и участия, то и в девичьей найдутся звуки, на которые они
отзовутся. Угодно ли вам, или не угодно будет следовать за мною, я отправляюсь
на площадку лестницы, с которой мне видно все, что происходит в девичьей» (2, 52).
Николенька хотел бы помочь Маше и Василию.
В его воображении возникает следующая сцена: вот он уже большой, ему
досталось Петровское, Маша и Василий его крепостные, они по-прежнему любят друг
друга и по-прежнему не могут пожениться. Он вызывает их к себе, разрешает
вступить в брак и дает им тысячу рублей.
Казалось бы, это обычный поступок
помещика-филантропа. Все дело, однако, в том, что Маша — это не просто
крепостная Николеньки Иртеньева, а еще и женщина, в
которую он сам влюблен. И воображаемая сцена доставляет ему наслаждение не
только тем, что он, как гуманный помещик, облегчил участь своих крепостных, но
и тем, что пожертвовал своим лучшим чувством ради счастья Маши, любившей
другого.
Однако даже в мечте
Николенька не может еще представить себе человеческие отношения за пределами
социального неравенства. Он потому, собственно, и переносит свою
благотворительность в область мечты, что не видит для Маши пути к счастью в
реальной жизни. С Натальей Савишной тоже ведь не так
все просто. В молодости ее пленили «напудренная голова и чулки с пряжками молодого
бойкого официанта Фоки» (1, 36). Любовь Натальи Савишны
была, по ее собственному признанию, сделанному спустя полгода, дурью. Дед Николеньки простил ее. И
Толстой, по всей видимости, одобряет и деда и Наталью Савишну.
Во всяком случае, он изображает ее дальнейшую жизнь как исполненную
человеческого смысла и даже счастья. Следовательно,
брак с Фокой был бы для нее несчастьем.
Толстой, как видно из этого, хорошо
понимает, что единственный способ, при помощи которого в крепостнической среде
люди могут вступать в человеческие отношения (с одной стороны, maman и Николенька, а с другой — Наталья Савишна), — это патриархально-идиллические, то есть
нетипичные отношения между господами и слугой.
Но жизнь идет вперед, не оставляя места
для патриархальных иллюзий. Об этом, в частности, говорит история Маши —
новый вариант истории Натальи Савишны. Маша любит
«несообразного и необузданного» Василия, а тот — когда ему запретили жениться
на Маше — «влюбился так, как только способен на такое чувство дворовый человек
из портных, в розовой рубашке и с напомаженными волосами» (2, 52). От отчаяния
он даже готов пуститься в бега. Маша не представляет себе, как бы она смогла
жить без него.
Словом, если Наталья Савишна
сумела подавить в себе чувство к Фоке, увидев, правда,
что это была всего лишь дурь с ее стороны, то Маша не идет на это. Да и
Василий — совсем не Фока. Однако судьба Маши не лучше, а хуже судьбы Натальи Савишны.
Формально запрет на брак Маши накладывает
Машин дядя. Самодурства помещика будто и нет. Но зато
есть нечто похуже: ухаживание отца и брата Николеньки за Машей.
Где же выход для Маши? Есть ли он?
Как выясняется, выхода, который открыл бы
для Маши путь к человеческому счастью, нет. Лишь в своей мечте Николенька видел
Машу счастливой. Ее счастье как будто бы «только в супружестве с Василием» (2,
55). Эта мечта героя «оставила глубокий след» в его душе, но судьбу Маши не
изменила к лучшему. В конце концов по просьбе
Николеньки Маше и Василию разрешили пожениться. Когда она благодарила
Николеньку, он ничего не почувствовал, кроме запаха розовой помады, идущего от
ее волос. Замужество Маши не вывело ее из порочного мира, в котором уже нет
места патриархальным отношениям. Мир Василия — всего лишь пошлое отражение
этого испорченного мира господ.
Проблема человеческого счастья и единения
людей существовала в литературе задолго до Толстого. Толстой по-своему подошел
к ней и этим обогатил всю мировую литературу. Капиталистический строй, как
враждебный всему человеческому, отвергается им с порога, — ив этом одно из
отличий его -от крупнейших западноевропейских
реалистов XIX
века, которые занимались всесторонним исследованием капиталистической
действительности, осуждая ее в итоге. Самый подход Толстого к человеку позволял
ему сразу увидеть в буржуазности оскорбление человеческого достоинства.
Патриархальность же, какие бы надежды ни возлагал на нее Толстой, под его пером
превращалась все-таки в анахронизм.
Толстой верит не в патриархальность, а в
жизнь и в человека. Однако патриархальность была первоначальной основой этой
его веры.
Веря в жизнь и в человека, толстовский
герой смотрит на мир наивными и доверчивыми глазами, что, вообще говоря, и
свойственно патриархальному человеку. Но вместе с тем у толстовского героя
аналитическое отношение ко всему окружающему. Патриархальность ведь рушится у
него на глазах, уходит в небытие, и он хорошо понимает, что надо создавать
новый мир, а какой и как — не знает. Толстой требует от человека
деятельного участия в движении человечества, — для этого он должен знать
жизнь, людей и раньше всего и глубже всего — самого себя. В толстовском герое
идет непрерывная борьба между верой и анализом; наивный и
доверчивый, время от времени он оказывается в состоянии глубочайшего кризиса,
вытекающего из аналитического отношения его к самому себе и ко всему
окружающему.
Важнейшее художественное завоевание
Толстого—постижение диалектики развития человеческого характера.
Противоречивость человеческой сущности,
обусловленной социально-историческими условиями, была известна в литературе и
до Толстого. Толстой показал, что человек движется и развивается в своем
стремлении преодолеть эту противоречивость, никогда не преодолевая ее; она
снова и снова порождается жизнью, и в эту жизнь все глубже погружается
толстовский герой. Он движется вследствие этого вместе с движением самой жизни,
переживает кризисы и преодолевает их, строит утопии и
не перестает быть реалистом.
Герой «Детства» лишь к концу повести
задумывается над самим собой, начинает понимать, что и он не свободен от
тщеславия — порока, которым страдают все люди его круга.
В «Отрочестве» герой значительно более
сосредоточен на самом себе. Он постоянно оказывается в противоречии с
близкими людьми, чувство одиночества непрерывно нарастает в нем, он наконец понимает, что может полагаться лишь на самого
себя, а потому все время словно испытывает свои собственные силы, меру своих
возможностей.
В «Юности» облик героя еще более сложен.
Теперь уже вполне ясно, что ему предстоит идти не шаблонным, а самостоятельным
путем, который, впрочем, еще нужно найти. Он предчувствует трудности, с
которыми придется столкнуться, и не боится их. Вопрос заключается не в том,
способен ли он самостоятельно поступать, не о возможностях его речь идет, но
об утверждении его самостоятельности в отношениях, свойственных юности. В
связи с этим герой становится не только центром, но почти единственным объектом
повествования, оттесняя все остальное на задний план. Масштаб повествования
укрупняется, изложение делается более обстоятельным и аналитическим. Третья
часть трилогии по объему равняется первым двум, вместе взятым.
По своему тону «Юность» — произведение
критическое. Критика эта повернута прежде всего
против самого героя. Он чувствует на каждом шагу шаткость своей позиции и все
время ловит себя либо на том, что мысль и чувства его отклоняются в сторону
обычного, тривиального пути, либо на том, что дела расходятся со словами, то
есть поступки не соответствуют принятым на себя обязательствам. Между тем
аналитическая способность его ума действует неизменно, не зная устали и не идя
ни на какие уступки. Он чувствует, мыслит, поступает — и все это анализирует и
подвергает строгому суду. Критический пафос повести сопутствует аналитическому, неуклонно нарастая.
Если принять первую главу
повести — «Что я считаю началом юности» — за введение к ней, то надо будет признать,
что повесть начинается торжественно. Вторая глава носит подзаголовок «Весна».
Эта глава является своего рода параллелью ко второй главе «Отрочества» —
«Гроза», Вообще принцип параллельности широко применен в автобиографической
трилогии. Духовный рост героя тем очевиднее для нас, что мы видим периоды его
жизни в сходных ситуациях. В «Отрочестве» гроза предвещает суровые
испытания, сквозь которые он должен пройти. В «Юности» весна в природе
символизирует и весну в его душевном состоянии.
Николенька смотрит на улицу через окно, из
которого только что выставлена зимняя рама. Он видит мокрую
землю, кое-где пробивающуюся молодую травку, бегущие ручьи, слышит хлопотливое
чириканье птичек,— и все это, как он думал, «говорило про красоту, счастье и
добродетель, говорило, что как то, так и другое легко и возможно для меня,
что одно не может быть без другого, и даже что красота, счастье и добродетель —
одно и то же» (2,82). И жажда стать иным, хорошим,
прекрасным и добрым охватывает его. Он не понимает, как мог мириться с
недостатками, которых у него так много, когда от них так легко отказаться.
Поэтому мечта о чудесном будущем перемежается с раскаянием, с упреками,
адресованными своему недавнему прошлому. И тут мы слышим рассуждения и
интонации, которые сделаются характерными в произведениях зрелого и даже
позднего Толстого. Вот одно из таких рассуждений: «Как мог я не понимать этого,
как дурен я был прежде, как я мог бы и могу быть хорош и счастлив в будущем!» —
говорил я сам себе: — «Надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим
человеком и начать жить иначе» (2,82).
Ход мысли, свойственный
зрелому Толстому, отчетливо проступает и в третьей главе — «Мечты». Николенька
собирается к исповеди, ему так хочется поскорее очиститься от прежних грехов,
которые уж, конечно, больше не повторятся. Ближайшее будущее ему видится таким
светлым и чистым. Он аккуратно будет ходить в церковь, читать евангелие, а
когда поступит в университет, то никакой роскоши себе не позволит. Он не
допустит, чтобы кто-нибудь услуживал ему и, кроме того, из тех денег, что будут
ему ежемесячно выдавать, четвертую часть будет отдавать бедным. Все свои силы
он вложит в науку, опередит всех своих товарищей по университету, с блеском закончит университет, сделается
магистром, доктором наук первым
ученым в России и даже в Европе.
И вдруг резкий и прямой вопрос: «Ну, а
потом?» (2,53).
Не то чтобы он вдруг усомнился в своих
способностях, в возможности достигнуть такого успеха. Нет, об этом он не
думает. Его беспокоит нравственная сторона мечтаний. Хороша ли цель, которую
он перед собой поставил? Стоит ли она того, чтобы свои духовные силы тратить
на ее осуществление? Даст ли она ему удовлетворение? Но он всего лишь на
минуту прервал течение мысли. Он озадачен: «Мечты — гордость, грех...» (2,53).
Это не сейчас он придумал. Он лишь припомнил, что об этом уже раньше думал. Ну,
если мечты — гордость и грех, значит, надо покаяться в грехе. Благо, сегодня
предстоит исповедаться.
Затем он снова отдается во власть мечты.
Теперь она движется в другом русле. Вот он встречается с ней, с любимой
девушкой, они становятся друзьями, любят друг друга...
Отвергнув и эту мечту, Николенька вдруг
загорается желанием развить в себе необыкновенную физическую силу. Он будет
заниматься гимнастикой и к двадцати пяти годам станет «сильней Раппо». Тогда всякого, кто посмеет оскорбить его самого или
непочтительно отзовется о ней, он может поднять «на два аршина от
земли» и тем самым показать ему свою силу...
Что бы он ни придумывал для себя в будущем
— все оказывается сомнительным или вовсе не подходящим. Мечта уводит его от
действительности — и это хорошо, ибо действительность не нравится ему; но мечта
не способна дать такую картину его будущего, которая серьезно увлекла бы его —
«и это не хорошо» (2, 84). Все
происходит оттого, что его мечта честолюбива и постоянно сбивается на
тривиальный путь. Однако он не может от нее отказаться, сделай он это, и у него
не останется ничего другого.
Юность живет не столько действительностью,
сколько мечтой. В юности человек устремлен в будущее, в мечте испытывает
возможности своего жизненного пути, определяет общий характер этого пути.
Главное для Николеньки в его
юношеской мечте то, что она есть критика прошедшего и страстное желание
совершенство. В этом ее особенность. Значит, несмотря ни на что, мечта благодетельна и
утешительна, хотя, и она не
может указать определенного пути в будущее.
Глава о мечте так заканчивается:
«Благой, отрадный голос, столько раз с тех
пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и
разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злостно обличавший
прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего и обещавший
добро и счастье в будущем, — благой, отрадный голос! Неужели ты перестанешь
звучать когда-нибудь?» (2, 85).
С юностью Николеньке не менее тяжело
расставаться, чем с детством. Концовка главы о мечтах юности построена точно
так же, как концовка главы о детстве (глава XV в повести «Детство»). Он надеется
навсегда сохранить в себе лучшие черты юношеского отношения к миру.
Способность мечтать необходима и в старости — эта
способность благодетельна и утешительна.
Таким образом, между детством и юностью
Толстой и его герой находят много общего: и в том и в другом возрасте
человек, по их мнению, воодушевлен верой в то, что люди и вообще мир могут быть
прекрасными, а если они вот сейчас и не совсем такие, то такое состояние
временно. В период детства недостатки в людях и в их отношениях вообще
кажутся большей частью случайными недоразумениями, причем какого-то внешнего
происхождения. Юноша обладает уже значительным жизненным опытом, хотя
еще наивен и легковерен. Он видит некий разлад и в своем собственном духовном
мире и в устройстве человеческих отношений, но считает, что ничего страшного в
этом нет, так как, по его мнению, человек может достигнуть совершенства
посредством разумной деятельности. Надо, следовательно, найти к ней пути.
В «Юности» Николенька
проходит несколько стадий в поисках разумной деятельности. Сначала мы его видим
преимущественно в домашнем кругу. Пока он больше мечтает, заменяя одну мечту
другой и все их поочередно осуждая. Больше всего ему неприятно в мечтах самолюбование.
Мечта есть гордость и грех, потому что она отвлекает человека от его
обязанностей перед человечеством. Как следствие мечты, возникает раскаяние.
Николеньке хочется до конца открыть свою душу перед богом, покаяться на
исповеди.
Он дважды исповедуется, а затем снова
грешит, хвастаясь перед извозчиком, который возил его в монастырь, своими
прекрасными чувствами. В ответ он слышит: «А что, барин, ваше дело господское»
(2, 96). Возможно,
извозчик этими словами просто отмахнулся от Николеньки, не думая его осуждать.
Николенька уверен, что извозчик его просто не понял. И все-таки замечание
извозчика устыдило его настолько, что он и через несколько лет краснел при
воспоминании о своем разговоре с ним. Самый вид извозчика — в изорванном армячишке, со
сморщенной шеей и сгорбленной спиной — не мог не быть для него укором.
Извозчика интересовали только два двугривенных, которые он должен был получить
с Николеньки. А у того, как на грех, нет их. Извозчик воспользовался этим
моментом и обидно для Николеньки пошутил над ним. Унижение следовало за
унижением. Слуга Василий, «под самое честное слово», дал Николеньке взаймы два
двугривенных, чтобы он мог расплатиться с извозчиком. Причем Василий нисколько
не верил честному слову Николеньки. В итоге лучшие чувства героя разлетелись
дымом.
Желание Николеньки возвыситься в глазах
других приводит к обратному результату: он обнаруживает перед ними свои
слабости, то есть те качества, которыми в действительности обладает, а не те,
которые только еще думает приобрести. Для извозчика он просто барчук, который к
тому же и расплатиться сам не может, для Василия — сын господ, которым он
служит, неплохой мальчик, но все-таки честное слово его еще ничего не
стоит. Характерно, что самолюбие Николеньки унижено в его отношениях с простыми
людьми.
Все это происходило с
Николенькой накануне его поступления в университет. В университете он сразу
показал себя с худшей стороны. В общении с совершенно незнакомыми людьми в нем
взяло верх сознание принадлежности к дворянской знати. Оно и раньше имело
власть над ним. Однако, встречаясь с людьми, которые хорошо знали, кто он
такой, Николенька хотел обнаружить перед ними свои человеческие качества,
до которых, собственно, почти никому из них не было дела. Его считали не более
чем оригиналом. Теперь же, оказавшись лицом к лицу с массой людей, которая
не знала и не хотела знать, насколько знаменит род, к которому принадлежит
Николенька Иртеньев, ему важно убедить их в знатности
своего происхождения. Здесь он также натыкается на стену отчуждения.
Исходя только из внешнего поведения
Николеньки, можно было бы, пожалуй, сказать, что теперь он стал типичным
аристократом. В действительности такого перерождения с ним не произошло.
Критический пафос Толстого здесь острее, чем где бы то ни было. Чем большим
аристократом становится Николенька, тем он больше страдает от этого.
Аналитическая сила ума не была утрачена им, напротив, она стала еще более
безжалостной. Среди чужих людей, постоянно сталкиваясь с новыми и новыми
обстоятельствами, Николенька с удвоенным вниманием относится ко всему,
неотступно следит за самим собою. Так, в частности, появляется знаменитая
классификация студентов.
Николенька чувствует себя непрочно и
неуверенно в новой сфере. Естественно, он хочет утвердить свое положение,
обрести спокойствие и уверенность, но его ожидают новые неприятности.
Николай Левин — в «Анне Карениной» —
скажет своему брату Константину, что тот не просто эксплуатирует мужиков, но с
идеей. Одна из особенностей любимых героев Толстого в том и состоит, что каждый
свой поступок они хотят связать с той или иной идеей. И от этого им в иных
случаях не хватает естественности. Особенно это происходит, когда в идее своей
они не вполне уверены. Так и случилось с Николенькой Иртеньевым
в его студенческое время. Он был не просто аристократ, как другие
студенты-аристократы, но аристократ с идеей, и эта идея губит его, как
аристократа. Быть аристократом — значит стараться возвыситься над кем-то,
унизить кого-то. А это ведь противно его натуре и мечте. Кроме того, обижая
других, не трудно оказаться и самому в таком положении, когда тебя обидят.
Палка о двух концах.
Так Николенька налетает на
скандал с Колпиковым (глава «Ссора»). Ему хотелось
похвастаться перед товарищами Володи: вот каков он! Но ему чего-то не хватало для этого,— не хватало прежде всего уверенности в себе, и это почувствовал Колпиков, который, видимо, давно носил в своей душе неотплаченную обиду. Николенька становится жертвой Колпикова. Потом он делает своей жертвой Дубкова, приятеля
своего брата. Он обидел слабейшего, как сам оказался
слабейшим перед Колпиковым.
Эта глава служит как бы увертюрой к ряду
глав, в которых описаны визиты Николеньки-студента к знатным родственникам и
знакомым. Наиболее скверно он почувствовал себя у Ивиных.
Сережа Ивин — теперь уже не Сережа, а «генеральский сын». И Николенька, глядя
на него, думает, что оказался в таком же положении, в каком Иленька
Грап часто находился перед ним. Отец Ивина, генерал,
«у которого было три звезды на зеленом фраке», не только не ответил на поклон
Николеньки, но вообще сделал вид, что не замечает его, и Николенька почувствовал
себя так, словно он «не человек».
Это уже возмездие за Иленьку
Грана, за аристократизм и комильфотность Николеньки.
Одна из глав повести так и называется «Comme il faut».
Она подводит итог этой теме, переплетающейся со всеми другими темами
произведения. Интересно, что она вклинивается в группу глав, описывавших жизнь Иртеньевых в деревне во время летних каникул Николеньки. На
Николеньку нахлынули воспоминания. Перед ним встали тени Натальи Савишны, maman, Карла Ивановича,
возник светлый образ его детства. Он примеривает себя к своему прошлому, к
сохранившейся от него обстановке.
«Все было то же, только
все сделалось меньше, ниже, а я как будто сделался выше, тяжелее и грубее; но и
таким, каким я был, дом радостно принимал меня в свои объятия и каждой
половицей, каждым окном, каждой ступенькой лестницы, каждым звуком пробуждал во
мне тьмы образов, чувств, событий невозвратимого, счастливого прошедшего» (2, 162—163).
Детская комната напомнила повзрослевшему
Николеньке беспечное детство, ему даже показалось, что настроение той поры
сохранилось здесь во всей своей неизменности и ждет только, чтобы его оживили.
Диванная, где скончалась maman, произвела совсем
другое впечатление — вся обстановка этой комнаты, свидетельницы смерти и
страдания, будто уверяла, что прошедшего больше уже не возвратить.
Этот покой старого дома проникает не
только в душу Николеньки, но распространяет свое влияние и на всех остальных.
Все они тянутся друг к другу в этом доме, в котором, как им теперь кажется, они
были так счастливы. И каждый из них чувствует, что вернуть прежнее невозможно.
Николенька и Катенька не могут уже невинно поцеловаться, как делали прежде.
Вместе с тем сила прежних отношений еще не была окончательно утрачена. И порою
им, которые вместе провели детство, а теперь уже
становились взрослыми, все-таки было очень хорошо. У них общее понимание, общий
язык со своими оборотами и специфическим употреблением слов.
И этот мир прошедшего они будто
сознательно реставрируют, чтобы с тем большей остротой ощутить его утрату.
Семейные отношения неотвратимо распадаются. Отец окончательно отходит от
сыновей. Эта отчужденность между родными заканчивается с
приходом мачеха. Перед лицом мира человек остается один. В отрочестве
это было скорее предчувствием, в юности сделалось реальностью.
В прежнем семейном кругу, в старом доме,
где прошло его детство, Николенька как бы проверяет самого себя — выясняет,
каким он стал, с чем выходит в мир. Он понимает, что наступила пора, когда он
должен принимать деятельное участие в жизни. Комильфотность
же решительно противоречит этому. Тот, кто считает себя комильфо, не обязан уже
ни о чем другом думать.
Поэтому глава о комильфотности, с одной стороны, звучит как неумолимый итог
многих его заблуждений, с другой — это как бы и самопредупреждение.
Она еще один раз взрывает идиллию, наметившуюся было в деревенских главах. И
это еще не все. В деревне Николенька зачитывается французскими романами,
романами Сю, Дюма и Поль де Кока, наслаждается природой, хочет быть во всем
комильфо и отчаянно мечтает. Между тем XXXII глава, в которой обо всем этом
рассказывается, одна из самых поэтических в «Юности». Она своего рода
противоположность главе о комильфотности, выдержанной
скорее в саркастическом тоне. В главе о комильфотности
Николенька говорит скорее не о себе, но о том, что такое комильфо и что будет с
ним, если он изберет для себя подобный жизненный путь. Следующая, XXXIII глава рассказывает о Николеньке, каков он
есть в действительности. При всех свойствах, привитых ему ложным воспитанием,
он искренен и стыдлив, так как его воспитывало также и аналитическое отношение
к миру и к самому себе. Как убежденный комильфо, он не признавал простого
народа, но всегда, во время прогулок, встречаясь с крестьянами, испытывал перед
ними сильное смущение, старался не попадаться им на глаза.
Дружба с Нехлюдовым обманула Николеньку.
Занимаясь благотворительностью, Нехлюдов убивает в себе жизнь сердца.
Николенька не может с этим примириться.
Последние главы «Юности» посвящены
описанию знакомства героя со студентами-разночинцами. Чернышевский
сочувственно отозвался об этих главах. Вот оценка самим Толстым этих глав: «Гл.
LIII — Новые товарищи — нескладно, но недурно. Гл. LIV. Зухин
и Семенов — порядочно, но лучше переделать, потому что содержание прелестно»
(2, 340).
В литературе о Толстом
заключительные главы «Юности» рассматриваются как свидетельство роста демократизма
Толстого. Для такого утверждения есть все основания. Все же, думается, дело нельзя
свести только к этому. В самом деле, Николенька тянется к студентам-разночинцам
вовсе не по той причине, что они демократичны по своим убеждениям. О
демократизме вообще нет речи. В студентах-разночинцах Николеньку привлекали
совсем другие качества — их человеческие достоинства. Он видит в них занятных,
интересных людей. Ему с ними хорошо, хотя он комильфо, а у них нет никакой комильфотности. Даже в смысле образования они не отстают от
дворян, не скорее превосходят их. Правда, иностранные заглавия они выговаривали
по-русски, но читали гораздо больше Николеньки, хорошо знали и ценили
английских и даже испанских писателей, о которых он и не слыхивал. В русской
литературе они были несравненно начитаннее его, а главное, она была для них
именно литературой, а не книжками в желтом или каком-либо ином
переплете. Николенька уступал им и во многих других отношениях, например в
музыке — некоторые из них были хорошими музыкантами. И это еще не все, может
быть, не в этом главное. Это были для Николеньки новые, впервые узнанные им
люди, их соединяло веселое товарищество, простота, честность, поэзия молодости
и удальства. На все на это не было и намека в той среде, в которой вырос
Николенька.
И перед Николенькой вставал вопрос: «Так
что же такое было та высота, с которой я смотрел на них? Мое знакомство с
князем Иваном Ивановичем? Выговор французского языка? дрожки? голландская
рубашка? ногти? Да уж не вздор ли все это?» (2, 218).
Приехав в университет держать
экзамен, Николенька сел на скамью графов и баронов. Он вел себя как истинный
комильфо, подтрунивал над другими, в частности над Иленькой
Грапом. Однако Грап хотя и
перетрусил, но сдал экзамен. Между тем Николенька совершенно не знал предмета. И он провалился (последняя глава повести так и называется: «Я проваливаюсь»).
Можно было бы сказать, что это случилось
потому, что Николенька был комильфо. Но ведь не все же графы и бароны не
выдержали экзамена, хотя, несомненно, они были хуже подготовлены, чем
студенты-разночинцы. Провалившись на экзамене, Николенька сразу расплатился и
за свою комильфотность и
одновременно за то, что он не мог удовлетвориться комильфотностыо.
Кто считает себя истинным комильфо, того вполне удовлетворяет это его
состояние, чуждое всяческим человеческим стремлениям и толкающее на рутинный
путь жизни. А Николенька одновременно хотел быть и комильфо и человеком,
стремящимся найти какое-то свое определенное назначение в жизни. От этого
ему не удавалось ни то, ни другое. Более глубокой потребностью Николеньки была,
конечно, потребность в своем особом пути, благодаря которому он стал бы человеком.
В «Юности» перед нами не только поражение
аристократа и комильфо, посрамление его перед разночинцами, но и крушение человеческих
устремлений, ложно направленных.
В «Юности» отчетливо намечаются такие
черты реализма зрелого Толстого, как особого рода моралистичность
и невиданная еще самокритичность положительного героя. Герой оказывается перед
необходимостью сделать выбор образа жизни и деятельности. Отличие
толстовского героя — это надо
сразу заметить — в том, что, сколько он живет, столько и занимается
выбором своего жизненного дела. В общем, он ни на чем не останавливается
окончательно.
Казалось бы, что и его на этом основании
можно отнести к разряду «лишних людей». Однако никому не придет в голову
назвать, например, Пьера Безухова лишним человеком.
«Лишние люди» появились в результате
невозможности для них осуществить свой гуманистический, впрочем
всегда более или менее расплывчатый идеал. Они искали такое дело, которое
было бы практическим осуществлением идеала, но, не находя его, в результате
оказались неспособными к какому бы то ни было делу. Исторически это последнее обстоятельство в общем совпало с моментом выступления
Толстого в литературе. Толстовский герой — человек другой эпохи, эпохи перехода
к делу. В эту эпоху перед передовыми людьми возникла возможность
реального, требуемого историей дела, а вместе с тем возникли и реальные
трудности, связанные с его исполнением. «Лишний человек» растерялся перед
этими трудностями, попал в смешное, жалкое или достойное сожаления положение.
Передовые борцы стремились преодолеть эти трудности революционным словом и
делом.
Толстовский герой по-своему подошел к
действительности: он хочет жить так, чтобы его жизнь удовлетворяла требованиям
к самому себе, но на этом пути постоянно сталкивался с теми же самыми
трудностями, что и революционный деятель. Его личный вопрос, связанный
с защитой человеческого в человеке, по своему содержанию становится в ряд
актуальнейших социальных вопросов эпохи (недаром «чистоту нравственного
чувства», свойственную толстовскому герою, Чернышевский характеризует как
воплощение важнейших примет эпохи). Он, толстовский герой, следовательно, в личном
плане идет по тому же самому пути, что и самые передовые его современники,
хотя не отдает себе в этом отчета и даже, более того, считает их своими
антиподами. Все дело в том, что социальное содержание облечено у героя Толстого
в моральную форму.
Именно по
этой причине толстовские произведения проигрывали в своей актуальности. Они
проигрывали в этом отношении тем более, что в прямой
постановке социальных проблем Толстой часто оказывался позади требований эпохи
или же всего лишь вровень с либералами, в подходе же к человеку с точки зрения
его требований к самому себе — а это составляло суть его художественного
творчества — он проникал в эпоху, как никто другой, двигая вперед
художественное развитие всего
человечества.
Первая редакция «Юности» была закончена в
героические севастопольские дни. По возвращении из Севастополя Толстой еще
дважды перерабатывал ее. Лишь в конце сентября 1856 года рукопись отправлена в
«Современник». Это была третья редакция повести.
На «Юности» лежит отпечаток настроений
Толстого двух разных периодов его жизни: героического, когда он был в
Севастополе, и скептического, когда он, по приезде в Петербург и особенно в результате поездки в Ясную Поляну, вплотную
столкнулся с реальными противоречиями русской жизни, в которые он должен был
вмешаться и которые определяли всю его дальнейшую жизнь.
Вот несколько отрывков из дневника
севастопольского периода:
«12 апреля. 4-й бастион. Писал Севастополь днем и
ночью (то есть «Севастополь в декабре месяце». — Б. Б.) и кажется
недурно и надеюсь кончить его завтра. Какой славный дух у матросов! Как много
выше они наших солдат! Солдатики мои тоже милы и мне весело с ними. ..
13 апреля. Тот же 4-й бастион, который мне начинает очень
нравиться, я пишу довольно много. — Нынче окончил Севастополь днем и ночью и
немного написал Юности. Постоянная прелесть опасности, наблюдения над
солдатами, с которыми живу, моряками и самим образом войны так приятны, что мне
не хочется уходить отсюда, тем более что хотелось бы быть при штурме, ежели он будет» (47, 41—42).
Об отношении Толстого к войне
и о том, какое значение имело для него пребывание в армии и участие в боях,
речь пойдет в следующей главе. Здесь же важно отметить, что война сближала его
с солдатской массой, открывала в простых людях их подлинные глубинные качества,
позволяла постоянно проверять самого себя, свои собственные нравственные
достоинства, а кроме того, обостряла интерес к общим
проблемам жизни каждого отдельного человека и всего человечества в целом. Приведу
еще одну дневниковую запись, идущую вслед за только что приведенными:
«14 апреля. Тот же 4-ый бастион, на котором мне
превосходно. Вчера дописал главу Юности и очень недурно. Вообще работа Юности
уже теперь будет завлекать меня самой прелестью начатой и доведенной почти до
половины работой. Хочу нынче написать Главу сенокос, начать отделывать
Севастополь, и начать рассказ солдата о том, как его убило. Боже! благодарю
тебя за твое постоянное покровительство мне. Как верно ведешь ты меня к добру.
И каким бы я был ничтожным созданием, ежели бы ты
оставил меня. Не остави меня, боже! напутствуй мне и
не для удовлетворения моих ничтожных стремлений, а для достижения вечной и
великой неведомой, но сознаваемой мной цели бытия» (47, 42).
В таком настроении создавалась первая
редакция «Юности». Более всего оно ощутимо в начальных главах повести. Потом
все явственнее проступает отпечаток скептицизма.
По окончании «Юности» Толстой составил
перечень глав ее с краткой характеристикой и оценкой каждой из них. Ряду глав
дана довольно суровая оценка: «Не едино» (XIV), «Пусто, но ничего» (XVII), «Порядочно пусто» (XXII), «Рассуждения, а не
художественное» (XXIX),
«Плохо, все рассуждения» (XXX),
«Рассуждения, но хорошо» (XXXI),
«Вяло и по языку слабо» (XXXIII)
и т. д. (2, 339-340).
«Детство» поэтизирует естественное гармоническое отношение человека к миру.
В этой повести причудливо сочетаются дифирамбические и элегические тона. Так,
например, глава XV
(«Детство») — это истинный дифирамб детству. Напротив, последняя, XXVIII глава («Последние грустные воспоминания») написана
элегически, — с героем мы расстаемся
на кладбище, у могил maman и Натальи Савишны. Однако элегические ноты встречаются
и в самой дифирамбической главе: детство-то ведь прошло и неизвестно,
удастся ли Николеньке удержать в своем
характере лучшие черты детского
возраста.
В «Отрочестве» отсутствует
дифирамбический тон, но здесь нет и элегии. Вторая повесть более мрачна, однако
менее тревожна. Герой здесь уже становится на ноги, его характер делается
значительно более активным[6].
Он даже не боится пойти на резкое разъединение с самыми близкими людьми.
Повесть строится именно таким образом,
чтобы в столкновении героя с миром показать силу его характера, заложенные в
нем возможности найти выход из создавшегося положения. Примечательно, что,
очень мрачная по своему тону, эта повесть кончается оптимистически: герой
верит, что впереди откроется светлый и широкий путь. Это было уже своего рода
вступлением к «Юности».
Юность героя, привлекательная этим
настроением неопределенной мечты и надежды, заканчивается провалом не только
на университетских экзаменах, но, главное, на экзамене жизни. Герою необходимо
выработать твердость мысли, какой-то определенный взгляд на мир,
соответствующий его стремлению быть человеком в подлинном значении этого
слова. Но как раз этого взгляда на мир у Толстого и не было во время окончания
«Юности», — он переживал очередное разочарование в себе и в своей
деятельности.
Имея в виду эту последнюю повесть, Толстой
часто упрекает себя за то, что он впадает в рассуждения. Он сомневался даже в
целесообразности печатать повесть, о чем прямо писал Панаеву в письме от 24
сентября 1856 года. Прежде чем передать рукопись в журнал, Толстой дал ее на
прочтение Дружинину. Самому Толстому казалось, что его повесть небрежна по
языку и растянута. А в общем он отказывался сам
оценить свое произведение, ибо, как он писал Дружинину, — «все у меня в голове
перепуталось» (60, 86). Так
Толстой определил свое душевное состояние к концу 1856 года. Дружинин очень
высоко оценил «Юность». По его мнению, она ничем не хуже ни «Детства», ни
«Отрочества». Он уговаривал Толстого не бояться рассуждений, так как у него
они всегда умны и оригинальны.
Наличие большого количества рассуждений в
«Юности» — факт не случайный. Они связаны с усложнением характера героя. В
«Детстве» Николенька более недоумевает по поводу нарушений, по его
представлениям, гармонического состояния мира, в «Отрочестве» ищет в самом себе
опоры для того, чтобы остаться самим собой. В «Юности» же хочет понять свое
отношение к различным жизненным путям, чтобы выбрать свой
особенный.
Рассуждений много будет и в последующих
произведениях Толстого. Однако там они станут составной частью самих
действий, утратят свою отвлеченность и теоретичность. Уже Нехлюдов в «Утре
помещика» не просто решает вопрос о том, чем он должен заниматься, но все
усилия свои направляет на урегулирование отношений со своими крепостными
крестьянами. Здесь перед нами данная деятельность данного человека,
а не вопрос вообще о деятельности, как это имеет место в «Юности», в
частности в Главе «Мои занятия», получившей наиболее суровую оценку со стороны
самого Толстого.
В детстве и отрочестве герой
чрезвычайно слабо соприкасался с социальной, помещичьей практикой. В юности он
почувствовал необходимость избрать ту или иную практическую деятельность. Даже
не занимаясь хозяйством, не став еще в этом узком смысле помещиком, он теперь
на все свои занятия стал смотреть под определенным углом зрения. И он понимал,
что не может поступать иначе, нежели как дворянин, как помещик, и понимал
также то, что это разрушает все его высокие мечты.
Существующий текст «Юности» Толстой
сначала рассматривал лишь как первую половину произведения. Об этом он в письме
от 6 октября 1856 года писал Панаеву, который остался в «Современнике» вместо
Некрасова, уехавшего за границу. Да и при публикации в «Современнике» на это
указывалось. Толстой намеревался продолжить работу над «Юностью», написать вторую
половину ее. Еще до окончания «Юности» было составлено два плана второй ее
половины, а после окончания, в июне 1857 года, Толстой написал первую главу и,
набросав план второй, остановился на этом.
Особенно интересна первая
глава ненаписанной второй части. Это довольно подробно разработанный конспект
главы, занимающий три страницы печатного текста. Конспект второй главы занимает
всего лишь четверть страницы (2, 343—346).
В выборе названия для первой главы имелось
колебание: «Утешение» или «Внутренняя работа». Глава эта начинается с момента
выхода Николеньки из университета. Этот факт, как сознается Николенька, был
для него посрамлением. Однако он не впал в отчаяние. Перед ним была «надежда на
будущее и умственная деятельность». В этом состояло утешение. Иначе
говоря, за утешение принималась внутренняя работа. Университет
отвлек его от нее. Теперь он снова возвратился к ней. Он заперся во флигеле,
удалился ото всех, сам убирал свою комнату, чтоб никто ему не мешал.
«И там-то начались для меня эти чудные
незабвенные ранние утра от 4 до 8 часов, когда я один сам с собой перебирал
все свои бывшие впечатления, чувства, мысли, поверял, сравнивал их, делал из
них новые выводы и по-своему перестраивал весь мир божий».
Именно миром божиим,
то есть судьбой всего человечества, был занят теперь ум Николеньки. Он и
прежде, как сам признаётся, предавался умозрительным рассуждениям, но никогда
еще не делал этого «с такой ясностью, последовательностью и с таким упоением».
Это возможно было при полном отрыве от повседневных забот, при забвении
окружающих условий. Так началась выработка своего, особенного мировоззрения,
соответствующего смутному стремлению юности стать человеком, найти свой
особый и вместе человеческий путь в жизни.
«Одно было нехорошо. Не считая никого
достойным понимать мои умствования, я никому не сообщал их и все более и более
разобщался и холодел ко всему семейству. Я не только не привязывал себя к
жизни новыми нитями любви, я понемногу разрывал те, которые существовали».
Вырабатывая свое человеческое
мировоззрение, герой, следовательно, отъединяется от людей и мира,
вместо того чтобы сближаться с ними. Противоречия его развития выходят,
если можно так выразиться, на широкую философскую арену. Чтобы их осветить,
нужно было хотя бы временно их как-то решить. Но как раз в это время Толстой был дальше чем когда бы то ни было от их решения, и план
второй части «Юности» не был осуществлен. Этому
способствовало также и то, что центральный эпизод «Молодости» (то есть второй
части «Юности») — неудача Николеньки благотворительствовать своим крестьянам —
слился с таким же эпизодом «Романа русского помещика», когда «догматический» замысел
последнего (Толстой предполагал указать все средства достижения идеальной жизни
помещика) отпал сам собой после столкновения Толстого с яснополянскими
крестьянами в мае — июне 1856 года.
Таков, можно сказать, итог работы Толстого
над произведением, которое первоначально называлось «Четыре эпохи развития». В
этом замысле Толстой совмещал интерес к проблеме становления духа, внутреннего
мира человека вообще с интересом к формированию неповторимой личности. Если бы
Толстой интересовался только первой проблемой, он остался бы во власти схемы и
не поднялся бы над уровнем банальности. В случае же, если бы он ограничил свою
задачу изображением процесса формирования отдельного индивидуума, ему не
удалось бы, при всей его гениальности, достигнуть всечеловеческого масштаба
своего произведения.
В общем своем
виде замысел «Четырех эпох развития» выглядит так: детство — пора
бездумно-любящая (каждый любит всех и все любят каждого); отрочество — пробуждение
самосознания и рефлексии, увлечение тренировкой ума, развитие которого
расшатывает безотчетность веры в то, что в мире царит любовь и справедливость;
юность — возникновение избирательного чувства дружбы и любви, мечты об
идеальных планах собственной жизни; молодость — вступление в область
духовной и практической деятельности, начало реализации выработанного
мировоззрения.
Художественная разработка этой схемы есть
открытие Толстого, так как до него никто с такой последовательностью и
основательностью не изображал указанные стадии в движении человеческого духа,
хотя, бесспорно, философской мыслью основы всего этого были уже осознаны и
разработаны. XIX век — век историзма и диалектики — как раз и отличается
грандиозными философскими, историческими, экономическими, политическими и
художественными концепциями. Здесь напрашивается параллель Толстого с Гегелем, открывшим
«феноменологию» духа, закономерность его развития.
Однако в художественном творчестве
стадиальность развития внутреннего мира, человеческого духа сама по себе
превратилась бы именно в бессодержательную схему, если бы герой был взят, как
простая иллюстрация к этой схеме, имевшей у разных мыслителей разное
содержание. Кроме того, при таком решении задачи облик героя, в данном случае
Николеньки Иртеньева, оставался бы таким, каким создали
его среда и традиции: либо схема непосредственно бы выводилась из него, либо он
явился бы механическим придатком к ней.
Толстой прежде всего углубляется в характер, а не
накладывает на него схему, он ставит своей задачей открыть, какое стремление
руководило его героем. В первом варианте «Четырех эпох развития» рассказчик
(он же и герой) «ничего не нашел ровно» в самом себе, а потому ссылается на случай
или судьбу, которые управляли им. Да такого стремления у
ребенка и нельзя было найти: оно только становилось, вырабатывалось. Будь
это иначе, то есть окажись на деле некое стремление, которое направляло бы его
жизнь, перед нами была бы, в сущности, мистическая картина: стремление, свойственное
данному человеку, появляется на свет вместе с этим человеком.
Написав первый вариант «Четырех эпох
развития», Толстой убедился, что задача была поставлена неправильно. В
последующей работе над произведением он не искал больше в Николеньке готового
стремления, а изображал процесс, в котором оно складывается.
Углубляясь в индивидуальный характер и
индивидуальные условия его жизни, Толстой не отходил от поставленной задачи
широкого обобщения; его конкретный герой, не теряя, а
постигая свою конкретность, становился человеком, вырабатывал понимание
своих человеческих обязанностей в жизненных столкновениях, в связи с
чем постепенно приближался к конфликту с окружающими условиями.
Переход от детства к отрочеству
не принес с собою ясности жизненного пути. Новый возраст ознаменовался
новыми поисками. То же следует сказать и о юности. Менялся лишь характер
исканий, соответственно возрасту, но искания оставались неотъемлемой чертой
героя. В отрочестве его развивающийся ум стал замечать в окружающих
людях ложь и фальшь, и это причиняло герою большие страдания, так как он, не
осознавая еще этого, продолжал вырабатывать в себе все то, что сделало бы его человеком.
Юность поставила героя в еще более затруднительное положение — приближалась
пора практической деятельности (молодость); юность заполнена мечтами о ней. Но
то, чего еще не знает герой, хорошо известно автору произведения, прошедшему
через 1847, 1855 и 1856 годы, когда рухнули все его планы. Эта черта отделяет
автора от героя. Автор знает гораздо больше героя, который проходит через все
испытания, пережитые автором. Однако автор пишет не для того, чтобы поведать о
том, как он вышел на правильный путь. То, что случилось с героем, неизбежно
должно было с ним случиться. Рассказывая об этом, автор хочет определить,
угадать свою собственную дальнейшую судьбу.
В этом — вся трудность для Толстого в
работе над замыслом «Четыре эпохи развития»: обойти 1847 год невозможно, а
если так, то как же изображать молодость героя, начавшуюся именно этим
годом?
Здесь, как уже говорилось, причина
незавершенности этого замысла и своеобразного слияния его с замыслом «Романа
русского помещика», в котором намечалось дать разрешение всех вопросов и
конфликтов, не преодоленных героем «Четырех эпох развития».
Так, не отрываясь,
а все более углубляясь в конкретную социальную почву,
Толстой показывал трудное движение своего героя к человеческому. Большой
этап на пути этих исканий для Толстого составили Кавказ и в особенности
Севастополь, но об этом — в последующих главах.
Поскольку главным предметом в искусстве
является человек, выяснение особенностей построения человеческого характера у
того или иного художника составляет в высшей степени важную задачу. Но принцип
построения характера неотделим от принципа построения сюжета, а все это
вместе представляет собою индивидуальный творческий метод.
Это единство метода у каждого
писателя своеобразно, и оно всегда определенное или определенным образом
развивающееся единство. Нельзя поэтому согласиться с тем, когда в серьезных
исследованиях выдвигается какая-то одна сторона этого единства в ущерб другим.
Более всего, пожалуй, не повезло сюжету, который долгое время толковался формалистически.
В последние годы наметился перелом в этом
отношении. Книга Е. Добина «Жизненный материал и
художественный сюжет» («Советский писатель», 1956, переиздана в 1958 году)
ставит проблему сюжета на научную почву. Значительное место этой проблеме
отведено в интересной книге В. Шкловского «Заметки о прозе русских классиков»
(«Советский писатель», 1953, переиздана в 1955 году).
Е. Добин в своей
яркой и остроумной книге наносит удар по компаративизму, по теории бродячих
сюжетов, доказывая на богатейшем материале связь сюжетосложения
с мировоззрением художника.
Однако, ставя характер переработки
жизненного случая целиком в зависимость от мировоззрения художника, Е. Добин недооценивает работу художника как процесс познания
действительности.
В. Шкловский определяет сюжет как
художественное исследование человеческого характера. Работа над характером
есть, по его мнению, работа и над сюжетом. Вследствие этого изменяется и то и
другое. Действительно, Пьер Безухов, скажем, задуман был далеко не таким,
каким он получился в окончательном тексте «Войны и мира». Работая над этим
образом, Толстой познавал определенного склада человеческую личность, и сама
жизнь поправляла писателя. Узнать человека можно лишь в типичных для него
жизненных ситуациях, которые в своей совокупности должны составлять нечто единое
и целостное. Поэтому сюжет и выступает как средство исследования характера. И,
говоря о Пьере, В. Шкловский устанавливает, что в ходе работы над этим образом
Толстой менял не только содержание самого образа, но и сюжетную линию,
связанную с ним. Таких примеров в книге Шкловского — сотни.
Тем не менее
и В. Шкловскому можно было бы сделать ряд возражений. Во-первых, сюжет
большого художественного произведения не есть простая сумма сюжетных линий,
каждая из которых представляет собою исследование того или иного изображаемого
лица. Иначе произведение распадалось бы на составные части. Во-вторых,
исполнение от замысла разнится не только в произведениях искусства, но и во
всяком человеческом деле, потому что делать что-нибудь значит и совершенствовать
себя, лучше узнавать то, что делаешь. В-третьих, утверждение, что сюжет каждого
произведения искусства целиком определяется в ходе его создания, в процессе
исследования жизни, приведет нас к мысли, что характер сюжета вытекает из
характера материала, изображаемого в данном произведении. А эта мысль отражает
лишь одну сторону истины; упускается из виду различие в природе талантов у
разных художников, движение и развитие таланта одного и того же художника на
протяжении его творческого пути.
Мало сказать, что художник исследует
человеческие характеры, — в его задачу входит исследование жизни. И он это
делает по-своему, — в зависимости не только от своих идейных позиций и
особенностей исследуемого жизненного материала, но в не меньшей степени и от
природы своего дарования, которое тоже отнюдь не является величиной неизменной
и тоже требует своего рационального объяснения.
Толстой внес много принципиально нового в
понимание содержания человеческой личности, разработал оригинальные принципы
ее изображения, обогатив тем самым всю мировую литературу. Его вклад в художественное
развитие человечества нельзя осмыслить, не выяснив особенностей в построении
его произведений в целом.
Допустим, что представление о сюжете как о
преображении жизненного случая в соответствии с мировоззрением художника —
полная истина. В этом случае мы должны были бы сказать, что в
автобиографических повестях, отталкиваясь от фактов, имевших место в его детские,
отроческие и юношеские годы, Толстой видоизменял эти факты, подчиняя общее
построение своих произведений собственным идейным убеждениям периода, когда
они были написаны. Это очень мало дало бы нам для уяснения места толстовской
автобиографической трилогии в истории русской и всей мировой литературы.
Теперь согласимся с тем, что
назначение сюжета исчерпывается исследованием человеческого характера, и
взглянем на повести Толстого с этой точки зрения. Оказалось бы, что в начале
работы Толстой имел одни представления о своем герое, а в ходе написания
произведений, углубляясь в сущность изображаемого лица, значительно изменил
их. Вот и все.
Человеческий характер, каким бы
значительным он ни был, все-таки явление единичное в том смысле, что
принадлежит к некоему целому и находится с этим целым в известных
отношениях. Поэтому, даже описывая отдельно взятого человека, художник ни в
коем случае не может ограничить свою задачу исследованием данного
человеческого характера. Перед ним вся жизнь, в которой он видит нечто такое,
чего не замечают другие, возможно и более крупные художники.
Грубо можно себе представить дело так: в
жизни: человек — люди — объективные отношения людей; в литературе: писатель
с его индивидуальным талантом и свойственным ему мировоззрением — характер — сюжет—
закономерности действительности, отраженные писателем
и в определенной степени осмысленные им во всей идейно-художественной структуре
произведения.
Иначе говоря, обращаясь к жизни, писатель
видит прежде всего человека, затем людей, наконец
объективные отношения между ними; и он, писатель, руководясь своим
талантом и мировоззрением, создает человеческий характер, обнаруживающий себя
в определенных ситуациях, за которыми стоит его, писателя, понимание
закономерностей жизни.
Об особенностях толстовского
сюжетосложения у нас уже немало написано. Чаще всего
их, эти особенности, сводят к интересу Толстого к истории человеческой души.
Наиболее категорически эта мысль сформулирована А. П. Скафтымовым
в его старой, но не утратившей большой ценности статье «Идеи и формы в
творчестве Л. Н. Толстого».
«Обычно каждое из
произведений Толстого представляет собою не что иное, как «историю души»
одного или нескольких главных лиц за некоторый промежуток времени. «Детство»,
«Отрочество», «Юность» — это «история души» Николеньки. Второй
севастопольский рассказ — история души капитана Михайлова, третий севастопольский
рассказ — история переживаний Володи Козельцова и
отчасти его брата, «Семейное счастье» — история чувств, сменяющихся настроений
Маши, «Рассказ маркера» — история нравственных колебаний и падения кн.
Нехлюдова, «Война и мир» — огромная история духовных смен и роста целого ряда
лиц, «Анна Каренина» — история души Анны и Левина»[7].
Да, конечно, история души каждого из
перечисленных героев входит составным элементом в сюжетную структуру того
произведения, в котором этот герой изображается. Но речь должна идти именно об
элементе, а не обо всем сюжете. Закон построения второго рассказа
севастопольского цикла куда шире, чем исследование души штабс-капитана
Михайлова. Свести сюжет рассказа к этому герою — значит не увидеть в нем
самого главного. То же самое можно сказать по поводу других произведений.
Необходимо уяснить, что же такое душа толстовского
героя. Она ведь совсем не такая, как, например, у героя Тургенева. Прежде
всего, она все время изменяется под воздействием внешних конфликтов, путем внутреннего
переживания их, проходя через подъемы и падения, через потрясения и кризисы.
Отбросив это, мы ровно ничего не поймем ни
в душе толстовского героя, ни в толстовском сюжете.
Работа А. П. Скафтымова,
опубликованная свыше тридцати лет назад, оставила
заметный след в литературе о Толстом. Возможно, она оказала некоторое влияние
и на С. Г. Бочарова, который
в недавно вышедшей интересной статье «Психологическое раскрытие характеров в
русской классической литературе и творчество Горького» значительное внимание
уделил Толстому. В частности, автор пытается установить своеобразие Толстого в
построении сюжета. Хотя его суждения на этот счет и отличаются от приведенных
суждений А. П. Скафтымова, все же связь между ними
заметить не трудно. Как и Скафтымов, С. Г. Бочаров
усматривает главную особенность толстовского сюжетосложения в преобладающем интересе к истории человеческой
души.
«У Толстого, как и у
Тургенева, — пишет он, — люди вступают друг с другом в определенные,
составляющие сюжет произведения взаимоотношения и в них познаются (?), причем
плану внешних отношений, выражающихся в действиях, диалоге и т. п.,
соответствует план отношений внутренних, раскрывающих психологическую подоплеку
внешних связей. Эти два плана и у Тургенева не совпадают, но они
во всяком случае более или менее параллельны друг другу. Здесь можно говорить
о прямом соответствии. План внутренний по отношению к непосредственно
сюжетному далеко не в той степени самостоятелен, как у Толстого»[8].
Написав последнюю фразу, автор статьи тут
же усомнился в ней: «это не те слова», пишет он вслед за этим.
Я не стал бы отмечать такой неудачный
оборот, как «люди вступают друг с другом в определенные, составляющие сюжет
произведения взаимоотношения и в них познаются» (кем познаются?), если
бы уже здесь не чувствовалась та неотчетливость, которой отмечено все это
суждение. Последующим развитием мысли автор нисколько не исправляет
неточности; напротив, полностью выявляет ее неправильность.
«В романах Толстого,—
пишет он,— сетка сюжетных взаимоотношений героев не только не есть прямая проекция
вовне линий их внутреннего развития — последние не могут быть спроецированы,
ибо они представляют особые миры со своими специфическими закономерностями,
миры, бесконечно более широкие, чем внешние проявления действующих лиц, их
видимая жизнь, миры, далеко не исчерпывающиеся и не покрывающиеся поступками. Связь психологического и сюжетного планов
принимает характер опосредствованной, сложной, непрямой связи. Вернее,
внутренние соотношения персонажей образуют особый, «внутренний» сюжет,
обладающий своей собственной логикой, сюжет сплетения, пересечения, узловые
точки линий которого далеко не прямо соответствуют сплетениям и пересечениям
внешних судеб тех же персонажей в ходе действия»[9].
Получается вроде, что внутреннее вообще никак не связано с внешним.
Прямо говорится о «внутреннем» сюжете, как об особом, который
будто бы строится по своим особым законам, обладает своей «собственной логикой».
Задача его, внутреннего сюжета, будто бы в том, чтобы изображать «особые миры»
с их «специфическими закономерностями».
«Внутренний сюжет» — термин не новый, он
применялся не раз к творчеству самых различных писателей. Едва ли все-таки в
нем есть необходимость. В искусстве все многозначно, и это относится не к
одному Толстому, а ко всякому истинному художнику. Если художник описывает,
например, рождение или смерть человека, так это вовсе не надо понимать так, что
он просто хочет сообщить нам, что появился на свет или умер человек. В искусстве
за каждым фактом скрывается мысль, обогащающая наши представления о жизни и о
людях.
Противопоставление внешнего
и внутреннего сюжетов может лишь сбить с толку, привести к
игнорированию событийной стороны и к тому, что психологическим факторам будет
придаваться самодовлеющее, независимое от внешних условий значение. Произведение искусства представляет собою
целостный художественный организм, изображающий внешнюю и внутреннюю
жизнь в их единстве, при всех возможных противоречиях между ними. Из этого
мы и должны исходить в анализе особенностей творчества всякого художника, в
том числе, разумеется, и Толстого. И было бы глубоко неверно воздвигать стену
между поступками героев и их психологией.
Обратимся к тому же самому примеру,
которым пользуется С. Г. Бочаров,— сопоставим толстовский принцип сюжетосложения с тургеневским. У Тургенева психологические
характеристики героев, как правило, не выходят за рамки описаний тех событий,
которые составляют как бы костяк сюжета; у Толстого, напротив, психологический
анализ в значительной своей части осуществляется за этими пределами. У
Тургенева внешнее всегда является прямым выражением внутреннего; у
Толстого связь между внешним и внутренним не прямая, а многосложная,
то есть такая, при которой внешнее в иных случаях
является как бы противоположностью внутреннего. Это есть уже в «Истории
вчерашнего дня».
Герой рассказа в гостях у
своих знакомых. Он уже собрался уходить. Сказал, что уходит. Его приглашают
остаться ужинать. Он слышал это, но был занят размышлениями над тем, почему
хозяйка дома, в которую он немного влюблен, называет его в третьем лице,— и
слыша, что его приглашают ужинать, он все думал над тем же, хотя не оставил без
внимания слова хозяйки. «Так как я был занят рассуждением о формулах 3-го лица,
я не заметил, как тело мое, извинившись очень прилично, что не может
оставаться, положило опять шляпу и село преспокойно на кресло. Видно было, что
умственная сторона моя не участвовалавэтой нелепости»
(1, 283). Вотяркий пример разобщения внешнего и внутреннего: тело
делает совсем не то, чем занят ум. И, однако, эти механические движения тела
как раз и указывали на то, что ум занят чем-то, не имеющим к этому
отношения. Связь между внутренним и внешним
здесь налицо, но связь эта не непосредственная. Говоря о механических
движениях тела, художник помогает нам глубже проникнуть в состояние ужа
героя. Точно так же характер его размышлений является ключом к пониманию
движений его тела. Одно неотделимо от другого.
Основа своеобразия художника — в его
подходе к человеку и к жизни.
Тургенев берет человека как сложившуюся
данность, тургеневский герой лишь постепенно раскрывает свою сущность, которая в общем остается неизменной. Так,
например, в «Накануне», в самом начале, Берсенев заявляет,
что ему предназначено быть «нумером вторым», таким он
и остается. Чуть-чуть позднее Елена формулирует свой идеал жизни и то,
как она представляет себе идеального героя. С этими мыслями она и проходит
через весь роман. Такой критерий подхода к человеку Тургенев применял во всех
своих романах. Базаров — фигура, трудно доступная для Тургенева, в процессе
работы над этим образом писатель оказывался и перед неожиданностями. Но не
только автор романа преодолевал большие трудности, чтобы узнать своего героя,—
сам герой то и дело натыкался на неожиданное в самом
себе. И все-таки Базаров по существу не меняется, не развивается, а лишь
обнаруживает в себе то, что было в нем и раньше. Он хотел вложить себя в схему,
но был гораздо шире этой схемы и все время разрывал ее.
У Тургенева герой
в общем всегда равен самому себе, а потому его внутренний мир находит
адекватное выражение во внешнем поведении. Его действия в основном и решающем
предопределены, он может поступать только так, а не иначе, хотя
бы и неожиданно для автора или для себя. Поэтому, совершая то или иное
действие, он тут же и выражает отношение к своему поступку, оценивает этот
поступок.
Тургенев называл себя «тайным психологом».
Он говорил, что писатель обязан знать, что переживают его герои, но не
обязан изображать всю картину их переживаний,— ему достаточно указать
на те признаки, по которым читатель безошибочно может представить себе, о чем
они думают и «то они чувствуют.
Исследователи творчества Тургенева
неоднократно пытались объяснить своеобразие его психологического анализа. В
литературе о Тургеневе накопилось большое количество ценных наблюдений этого порядка.
Все же вопрос о том, чем отличается Тургенев-психолог от Толстого-психолога —
а этот вопрос ставится чаще всего, — пока не решен.
А. Г. Цейтлин
говорит преимущественно о лаконизме тургеневского психологического анализа.
«Создать целостный и органический характер
значило определить основы психической жизни человека, сконструировать ведущие
черты его поведения. Тургенев осуществлял эту задачу подчас с исключительной
силой лаконизма. Он умел всего лишь в нескольких строках очертить строй
переживаний героя. Тургенев обнаруживает поразительную сжатость в
психологических характеристиках второстепенных персонажей...»[10]
«Тургенев конденсирует, уплотняет
психологический анализ, но он вовсе не избегает его»[11].
Сами по себе эти утверждения — святая
истина. Кто же может сомневаться в том, что Тургенев не уклоняется от
психологического анализа?! Равно бесспорно и то положение, согласно которому
Тургеневу, как психологу, свойственна экономность художественных средств. И,
однако, все это ничего не доказывает.
А. Г. Цейтлин
затрагивает вопрос о критических замечаниях Тургенева в адрес Толстого.
Тургенев многое не одобрял в толстовском психологическом анализе, находил его
чрезмерным. А. Г. Цейтлин не соглашается с этим
мнением Тургенева. Но и это нисколько не проясняет сущности проблемы.
Тургенев не потому не
развертывал картину психологических переживаний своих героев, что он не умел
этого делать, и не потому, что стремился к сжатости (сжатость — это
требование всякого настоящего художника, в том числе, конечно, и Толстого), а
потому, что такие картины были не нужны ему, они противоречили бы всей его
художественной системе.
Вот, скажем, сцена встречи Лизы и Лаврецкого в монастыре. Тургенев отмечает
лишь те признаки, которые указывают, что в душе его героини происходит буря.
Картины переживаний Лизы он не дает. Такая картина не нужна, ибо она не
обогатила бы наши представления о Лизе: Лиза нисколько не изменилась в процессе
этих переживаний, она прошла сквозь них, оставшись такою же, какою была до
этого. Кроме того, переживания Лизы, по всей видимости, были столь
неопределенны и смутны, что едва ли их можно было перевести на язык, доступный
другому человеку. Нечто подобное происходит и в других аналогичных случаях.
Психологический анализ не есть какое-то
дополнение к сюжету — он представляет собою существенную сторону сюжета.
Четкость и прозрачность сюжетного рисунка в романах Тургенева обусловлены также и характером его психологического
анализа. Тургенев интересуется психологией своих героев в той мере, в какой
это необходимо для того, чтобы нам было ясно, насколько им понятен общий ход
жизни, ее требования к ним, как строги они к самим себе, почему на все, что
случается с ними, смотрят как на неизбежность.
Тургенев изображает жизнь как
нуждающуюся в серьезных изменениях и предъявляющую соответствующие требования
к лучшим людям, ибо изменить ее могут только люди, и при этом лучшие.
Эти лучшие люди предстают, в изображении Тургенева, как во многом сознающие
требования времени и далеко не во всем удовлетворяющие этим требованиям.
Течение жизни, истории и судьбы людей нигде не сливается в
тургеневских произведениях, жизнь, история неизменно возвышаются над людьми,
даже самыми лучшими, и люди расплачиваются за это дорогой ценой. Тургеневские романы трагически обрываются.
Тургеневский сюжет — обычно ступенчатый, а
не плавно развивающийся. Двигаясь от одной ступени к другой, мы узнаем о героях
как то, что их приближало, так сказать, к пульсу
жизни, так и то, почему они все-таки не сливались с нею, в силу чего трагический
конец наступал для них со всей неизбежностью. Конфликт в тургеневском романе —
это всегда конфликт человека и истории, хотя бы коллизия носила чисто
любовный характер. Свое внимание Тургенев сосредоточивает на разрыве между
намерениями героя, его желанием изменить существующее положение вещей и
возможностями осуществить эти намерения. Тургеневский роман обычно завершается
крахом героя, который в конце концов осознает, что он
человек исчерпанных возможностей. Все движение сюжета неуклонно ведет к этому,
каждая ситуация его поэтому сама по себе вполне закончена, ибо раскрывает то
или иное свойство героя не в процессе становления и развития, а как
окончательно определившееся и подлежащее исторической оценке. Поэтому сюжет и
получается ступенчатый. Выделяются основные качества героя и даются в
сопоставлении с историческими требованиями, которые в одних случаях
подразумеваются, а в других прямо называются. Промежутки между решающими
эпизодами, изображающими героя в действии, заполняются авторским описанием
больших периодов в его жизни, в течение которых совершалось становление его
как личности.
Таким образом, в романах Тургенева история
в конечном итоге произносит свой суд над героем. Но требования истории
остаются неисполненными, и Тургенев вновь и вновь обращается к поискам героя,
который оказался бы на их уровне, но он так и не нашел его. Тургеневу ясна
была необходимость перемен в общественно-исторической жизни России, но он не
преодолел колебаний в вопросе о том, какие силы должны осуществить их.
В отличие от тургеневского,
ступенчатого сюжета, толстовский сюжет все время движется, развивается через
духовные кризисы его героя. Какая бы острая ситуация ни развертывалась перед
нами в толстовском произведении, она, как правило, не исчерпывает себя, ибо
таит в себе предпосылки зарождения новых качеств в герое или в героях.
Сталкиваясь с другим,
толстовский герой думает не только, а часто и не столько о том, что вот
сейчас происходит, сколько о том, к каким последствиям это приведет, что ему в
дальнейшем предстоит делать. Столкновения различных героев между собою в
толстовском сюжете действительно не самое главное, однако эти столкновения
необходимы, так как являются одновременно и следствиями и предпосылками их внутреннего
развития.
Герой Толстого духовно растет, познавая прежде всего самого себя в отношениях к жизни. Но
он, как никто другой, далек от индивидуализма. Достижение единства с другими
людьми, со всем человечеством — его главная цель. Он пробивается к людям сквозь
все перегородки, которые отделяют его от них. Каждая встреча его с другим
человеком сама по себе ничего не решает, порою вообще ни к чему не ведет, но
без этих встреч его внутренняя жизнь утратила бы всякий смысл. Она невозможна
без них и неотделима от них. И это указывает на единство и монолитность
толстовского сюжета.
Задача Тургенева как психолога
в общем сводилась к тому, чтобы обозначить силу или слабость натуры, глубину
человеческих переживаний по поводу неизбежно совершившегося или совершающегося.
Отсюда его теория «тайной психологии».
Толстовский психологический анализ
качественно другой. Толстовский герой часто оказывается в положении, когда
должен выбрать один путь действия из нескольких возможных, ему
необходимо взвесить и оценить самые различные обстоятельства, предугадать
вероятные последствия своих действий. Для всего этого требовался психологический
анализ такого масштаба, какого еще не знала вся мировая литература.
Из художников XIX века один только Достоевский подвергал
человеческую душу не менее сложным испытаниям, но совсем другого характера.
Достоевскому, в связи с особенностями его общественно-политической позиции —
восприятием революции только как трагедии,— была доступна лишь трагическая
сторона человеческого духа, обусловленная отношением человека к политической,
собственно говоря — революционной идее. Достоевский более
политический писатель, чем Толстой, в центре его внимания
философско-политические идеи развития человеческого общества. Герой
Достоевского берет эти идеи и испытывает их человеческой душой, в свою очередь
испытывает ими человеческую душу. Это относится, скажем, и к Раскольникову, и к
Долгорукому («Подросток»), и к Ивану Карамазову. Осуществление революционной
идеи требует, по Достоевскому, обязательного насилия по отношению к какой-то
части людей, пролития их крови; способна ли пойти на это душа человека? С
другой стороны, сама по себе душа в гораздо большей степени, чем идея, — мера
вещей, а раз так, то выдержит ли политическая идея суд человеческой души?
Таким путем Достоевский погружается в
человеческую душу, в анализ ее, который мало соприкасается с толстовским
анализом. Толстого интересуют возможности роста человеческой личности, который
осуществляется в связи с познанием ею и самой себя и, в сущности, всего мира.
Достоевского интересует человек совсем в другом смысле: сила, с помощью которой можно изменить
несовершенное общественное устройство, заключена не в нем самом, а в независимо
от него существующих идеях, от которых требуется для этого, чтобы они были
истинными перед душой человека. И человеческая душа анализируется Достоевским
не сама по себе, не как элемент мира, к идеальному устройству которого она
стремится и идеальное устройство которого зависит от этих устремлений, а в
отношении к общественным несовершенствам (этим доказывается правомочность
философско-политических идей) и к этим идеям (здесь же они испытываются и в конце концов отвергаются как неистинные перед душой).
Из этого видно, что
психологический анализ Достоевского преследовал совсем другие цели, нежели
толстовский. Достоевский часто погружается в такие бездны человеческой души,
до которых Толстой никогда не добирался. Но что это за бездны? Герой Достоевского, испытывая себя философско-политическими
идеями, заключающими в себе самые различные возможности и допускающими самые
различные толкования, порою поднимался к вершинам человеческой поэзии, к самым
высоким мечтам, которые только свойственны человеку, иной раз — к героизму во
имя человека и человечности или гневу, вызванному тяжкими преступлениями против
человека, которыми так богата человеческая история. При всем этом герой
Достоевского всегда оставался на грани падения с высоты — в бездну, а испытание
его души идеями обычно превращало его душу в гнездилище
темных помыслов и низких чувств.
Понятно, что человеческая душа в
творчестве Достоевского прямо соотнесена со всей человеческой историей
и со всей человеческой мыслью. У Толстого все это не так, потому что мысль
толстовского героя растет из его личного опыта, а не из идей, которыми герой
Достоевского проверял свою душу и которые он проверял своей душой.
При всем невиданном размахе мысли героя
Достоевского, в нем нет настоящего духовного роста, ибо для него
в конце концов не важно, каков он сам, а важно, какое у него отношение к
существующим философско-историческим и политическим идеям. Человек у
Достоевского всегда, в сущности, равен самому себе, хотя в результате
изменения его отношений к философским и политическим теориям меняется характер
его поступков, его поведения. Но ведь, в сущности, он часто смотрит на свое
поведение как на эксперимент. И он становится самим собою, когда перестает
экспериментировать.
Другая особенность духовной жизни героев
Достоевского— однобокость ее, неполнота. Они, герои
Достоевского, стремятся не к той полноте человеческой жизни, которая так
свойственна толстовским героям, а к тому, чтобы экспериментировать над самими
собою и над захватившими их идеями, и экспериментировать в определенном
направлении. Часто случается, что перед ними, как и перед толстовскими героями,
встает вопрос: так поступить или иначе? Однако толстовский герой
оказывается в такой ситуации неизбежно потому, что он все время находится в
процессе познания жизни и в силу этого часто не знает, какое решение может быть
лучшим, а порой его не устраивают оба и он ищет третье. Герой Достоевского
совсем по другой причине попадает в аналогичное положение, вернее — ставит
себя в такое положение: смогу ли я поступить, как другие, получившие широкую
известность люди? стоит ли поступить так? а что из этого получится? и т. д.
В тесной связи с характером
психологического анализа находится характер сюжета у Достоевского. У Толстого
кризисы душевной жизни героя — своеобразные вехи на пути движения сюжета, у
Достоевского в основе сюжета — катастрофы, которые случаются с героем.
Катастрофы эти неизбежны: герой потому, собственно, и экспериментирует над
увлекшей его идеей и над своей собственной душой, что, с одной стороны, не
может оставаться в стороне от этой идеи, понимая ее всемирное значение, а с другой
— чувствует невозможность, так сказать, спаять ее со своим душевным строем.
Отсюда неизбежность катастроф. Поле действия в результате неизменно
расширяется, углубление в противоречия жизни нарастает, но выходов для их
преодоления не намечается. У Толстого герой, познавая самого себя неотделимо от
жизни, через кризисы и потрясения, углубляется в себя и в жизнь, а значит —
движется к истине. У Достоевского ничего подобного не происходит, так как
герой познает не столько себя, сколько идею, а через нее и жизнь, но познание
идеи и жизни не ведет его к сближению с идеей и жизнью, а напротив —
отталкивает и от идеи и от жизни. Катастрофы жизненного пути и идейные конфликты
героя Достоевского отбрасывают его, почти всегда плебея по духу и способу
мышления, к крайней реакции; ему некуда идти дальше. Толстовский герой
через кризисы своих идейных исканий и через совершенствование в себе человека
упорно пробивается к народу; путь его никогда не кончается.
Толстовский герой все время меняется. Он
не противопоставляет себя жизни, а вбирает жизнь в себя и отдает себя жизни.
Он всякий момент новый, хотя при этом и тот же самый.
Делая свое человеческое дело — а это и
есть, с его точки зрения, подлинная история,— он перестраивает и самого себя.
Однако его движение не есть прямое восхождение, оно перебивается душевными
потрясениями и духовными кризисами. Это неизбежно, поскольку он ищет человеческого
пути в античеловечном мире.
Толстовский герой делает то
дело, которое прежде всего его лично касается (мы уже
знаем, почему это происходит). Этим определяется то, что Толстой тяготеет к
описанию повседневных событий, каждый день происходящих с человеком, или же
таких, например, как рождение и смерть человека, как свадьба или именины и т.
д. И все эти события представлены у Толстого как самые обычные, ничем не
выходящие из пределов нормы. Отсюда обычность и простота сюжетных построений в
его произведениях. Все начинается с какого-то рядового, обыкновенного события
в жизни человека, таким же образом все и оканчивается. От этого такое ощущение
при чтении Толстого, что тут нет никакого искусства в построении произведения,
что движется не сюжет, а сама жизнь.
В этом убеждает нас уже автобиографическая
трилогия.
А раз так, значит определение толстовского
сюжета, как «истории человеческой души», нельзя признать удовлетворительным.
При всей своей сосредоточенности на человеческой душе, в данном случае на душе
Николеньки Иртеньева, Толстой изображает целый
жизненный уклад, который, как мы это видели, в основе своей враждебен человеку
(история Натальи Савишны, история Маши, множество
других историй, наконец и главным образом — история
самого Николеньки).
На своем пути герой трилогии встречал
разных людей, начиная от своих семейных и кончая
студентами-разночинцами. Эти встречи и столкновения, собственно, и
стимулировали его душевную и духовную жизнь, иные из них являлись этапными
(например, история отношений с Карлом Ивановичем, столкновение с Жеромом, дружба с Нехлюдовым и т. д.).
Толстовский сюжет — как, впрочем, и
тургеневский — един и монолитен, в нем выражена неповторимая природа таланта
Толстого, его особенный подход к жизни человека, направление его мысли и
духовных исканий.
Своеобразие и мощь реализма Толстого нашли
свое выражение также и в языке и стиле этого писателя, — к сожалению, крайне
мало изученных и до настоящего времени. Язык Толстого
нельзя понять, не разобравшись во всей системе его художественного мышления.
Это ясно. Но очевидно также и то, что, не проникнув в неповторимую структуру
толстовского языка, мы ограничим себя и в понимании толстовского реализма. Это,
впрочем, относится ко всякому писателю.
Из всех
работ о языке Толстого выделяется большая статья академика В. Виноградова, в
основном посвященная языку «Войны и мира»[12].
Это капитальное исследование представляет собою первую попытку научного рассмотрения
языка Толстого в пятидесятые—шестидесятые годы: с одной стороны, в общей
системе русского литературного языка и индивидуальных художественных стилей
русских писателей XIX
века, а с другой — исходя из общих оснований толстовского реализма. Написанная более двадцати лет назад, эта
блестящая работа содержит и ряд спорных положений, частично уже отмеченных в
нашей научной литературе[13].
Мне представляется, что дальнейшее изучение языка Толстого должно развиваться
в направлении, которое позволило, бы более глубоко
понять природу толстовского реализма, его место в художественном развитии
всего человечества.
Язык Толстого всегда привлекал внимание
критиков, писавших о нем. Меткие замечания на эту тему мы находим уже в
статьях его современников. Так, Страхов, в угоду своей почвеннической теории
неверно истолковавший общий смысл творческих устремлений Толстого в смысле
отмежевания от всего европейского, наряду с этим высказал много интересных
мыслей о Толстом, в частности о его языке. Вот что писал в одной из статей о
«Войне и мире»:
«Чем все были поражены в
«Войне и мире»? Конечно, объективностью, образностью. Трудно представить себе
образы более отчетливые, краски — более яркие. Точно видишь все то, что
описывается, и слышишь все звуки того, что совершается. Автор ничего не
рассказывает от себя: он прямо выводит лица и заставляет их говорить,
чувствовать и действовать, причем каждое слово и каждое движение верно до
изумительной точности, то есть вполне носит характер лица, которому
принадлежит. Как будто имеешь дело с живыми людьми, и притом видишь их гораздо
яснее, чем умеешь видеть в действительной жизни. Можно различать не только
образ выражений и чувств каждого действующего лица, но и манеры каждого,
любимые жесты, походку. . . С такою же ясностью и
отчетливостью автор знает все движения, все чувства и мысли своих героев.
Когда он раз вывел их на сцену, он уже не вмешивается в их дела, не помогает
им, предоставляя каждому из них вести себя сообразно со своею натурою»[14].
Наблюдение очень точное. Однако оно не
получило глубокого объяснения. Все дело у Страхова сведено к художественному
мастерству Толстого, к объективности образов. Между тем то, о чем говорит
Страхов, выражает эпическую природу толстовского реализма. Выше говорилось,
что для центрального толстовского героя ценность имеет только та мысль, которую
он может подтвердить своей личной деятельностью, и что на эту последнюю, в
каких бы сферах она ни развертывалась, он смотрел как на осуществление идеала.
Толстой придавал первенствующее значение индивидуально-неповторимому человеческому
опыту и считал, что его нельзя передать чужими словами, нельзя описать, о нем
невозможно рассказать — он должен быть представлен как таковой, во всей своей
непосредственности. Поэтому Толстой и не описывает своих героев, а заставляет
их жить самостоятельной жизнью. Так он стремится снять
(никогда не достигая этого) противоположность между идеалом и повседневной
текущей деятельностью, ибо эта последняя, в его понимании, представляет собою
не что иное, как осуществление идеала, который часто терпит крушение,
заменяется другим; с другой стороны, такая позиция вела к уничтожению грани
между большими, и малыми делами: всякое дело равно другому, если
оно является истинно человеческим делом. И, наконец, такой взгляд на человека и дело обязывал художника не
рассказывать о том, что было с человеком, не описывать его, но изображать в
постоянном движении, в деянии, неотделимом от отношения к этому деянию.
Автобиографические повести
были начаты как своего рода воспоминания. Но Толстой быстро отказался от такого
способа изложения. В окончательном тексте этих повестей образ героя и
рассказчика представляет собою нерасторжимое целое, хотя мы ни на минуту не
забываем, что между тем временем, о котором рассказывается, и тем, когда
рассказывается, немалая дистанция. Отчасти это достигается за счет того, что
Николенька-взрослый хочет сохранить в себе лучшие черты Николеньки-мальчика,
отчасти же тем, что даже в случаях, когда Николенька открыто
становится на позицию мемуариста, он стремится передать не общий смысл того,
что с ним происходило, но свое непомеркшее, глубоко
личное впечатление. Более всего подобных сцен на первых страницах «Детства».
Вот некоторые примеры:
«Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на
цыпочках прокрадешься наверх, в классную, смотришь — Карл Иваныч
сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым
выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в
такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу,
голубые, полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы
грустно улыбались».
«Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и
думаю: бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он —
один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он
сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню,
как он рассказывал ее Николаю — ужасно быть в его положении! И так жалко
станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: Lieber Карл Иваныч!». Он любил,
когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган».
«Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и
спина заболят, и думаешь: забыл про меня Карл Иваныч:
ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, —
а каково мне? и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять
заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком
большой кусок на землю, право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься
на Карла Иваныча, — а он сидит себе с книгой в руке и
как будто ничего не замечает».
«Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч
лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки,
чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех: так сделается досадно,
что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану
учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?».
Досада перейдет в грусть и, бог знает отчего и о чем,
так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч
сердится за ошибки».
Эти четыре отрывка взяты из первой главы
«Детства», они размещены на двух соседних страницах. Подчеркнутое мною слово
«бывало», начинающее каждый отрывок, указывает на единый и своеобразный подход
в их построении. Вспоминая о своем детстве, Николенька интересуется не столько
тем, что происходило вокруг него, сколько тем, что происходило в нем самом. Это
принципиальная позиция автора «Детства», и она сформулирована в XII главе «Гриша».
«Много воды утекло с тех пор, много
воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже
и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование; но впечатление,
которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в
моей памяти» (1,35).
Герой Толстого хорошо запомнил людей,
среди которых протекало его детство. Но несравненно лучше помнит он
впечатления от них, то есть вызванные ими в нем чувства, подчас играющие
самостоятельную роль и вошедшие в его общую духовную эволюцию.
Впечатления есть то, из чего складывается личный,
индивидуально-неповторимый опыт толстовского героя, — самое драгоценное в его
жизни.
Мы видим, следовательно, что даже тогда,
когда Толстой заставляет своего героя перенестись в область прошлого, герой
это делает так, что о прошлом рассказывает как о настоящем, выделяя в нем на
первый план свои немеркнущие впечатления, остающиеся всегда при нем, как часть
его самого.
Было замечено, что эпизоды, связанные с воспоминаниями
Николеньки о Карле Ивановиче, по своему построению очень схожи друг с другом.
Автора повести занимает не столько разнообразие внешних фактов, с которыми
сталкивается его герой, сколько движение чувства и мысли героя, возбуждаемое
этими фактами.
Впечатление, в таком понимании, не только
самое драгоценное, но и самое достоверное в человеческой жизни.
Можно сказать, что те
особенности толстовского языка, которые так метко схвачены Страховым,
выражают сущность общей идеологической, эстетической и художественной позиции
Толстого, а не просто свидетельствуют о его мастерстве и стремлении к
объективности образов, как об этом пишет тот же Страхов.
Язык Толстого вместе с тем отличается
эпическим величием, в чем не может сравниться с ним ни один из гениальных
художников XIX
века.
Для толстовского героя всякое дело,
которое он исполняет с сознанием его необходимости, является его личным
вкладом в общечеловеческую жизнь. Поэтому о каких бы
незначительных событиях своей жизни он ни рассказывал, этот свой рассказ он в
любой момент мог повернуть в план обращения к любому другому человеку, ко всем
людям сразу.
В одних случаях эти обращения представляют
собою основанные на наблюдениях за жизнью отдельных людей обобщения и выводы о
законах движения человеческого духа. Примеров здесь сколько угодно.
«Между бесчисленным количеством мыслей и
мечтаний, без всякого следа проходящих в уме и воображении, есть такие,
которые оставляют в них глубокую чувствительную борозду; так что часто, не
помня уже сущности мысли, помнишь, что было что-то хорошее в голове,
чувствуешь след мысли и стараешься снова воспроизвести ее» (2, 55).
«Мне кажется, что ум
человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же
пути, по которому он развивается и в целых поколениях, что мысли, служившие
основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума; но
что каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о
существовании философских теорий» (2, 56).
«Отвлеченные мысли образуются вследствие
способности человека уловить сознанием в известный момент состояние души и
перенести его в воспоминание» (2, 58).
«В молодости все силы души направлены на
будущее, и будущее это принимает такие разнообразные, живые и обворожительные формы
под влиянием надежды, основанной не на опытности прошедшего, а на воображаемой
возможности счастья, что одни понятые и разделенные мечты о будущем счастии составляют уже истинное счастье этого возраста»
(2, 73).
В других случаях толстовские обобщения
преследуют цель выделить определенные категории людей с определенными,
объединяющими всех их свойствами.
Застенчивые люди: «Страдание людей застенчивых происходит от
неизвестности о мнении, которое о них составили; как только мнение это ясно
выражено — какое бы оно ни было, — страдание прекращается» (1, 68).
Ограниченные люди: «Дубков был маленький, жилистый брюнет,
уже не первой молодости и немного коротконожка, но недурен собою и всегда
весел. Он был один из тех ограниченных людей, которые особенно
приятны именно своей ограниченностью, которые не в состоянии видеть предметы с
различных сторон и которые вечно увлекаются. Суждения этих людей бывают односторонни и ошибочны, но всегда чистосердечны и
увлекательны» (2, 67).
Упрямые люди: «Мне почему-то показалось, что именно
потому, что Дмитрий слишком горячо заступался за Дубкова, он уже не любил и не
уважал его, но не признавался в том из упрямства и из-за того, чтоб его никто
не мог упрекнуть в непостоянстве. Он был один из тех людей, которые любят друзей
на всю жизнь, не столько потому, что эти друзья остаются им
постоянно любезны, сколько потому, что раз, даже по ошибке, полюбив
человека, они считают бесчестным разлюбить его» (2, 116).
Наконец, Толстой или соотносит людей по
разным признакам, или обобщает психологические черты, характерные для
определенного возраста, или подразделяет какое-либо чувство на его различные
виды, или отмечает совместимость в одном человеке как бы двух разных людей.
Соотнесение людей по разным признакам:
«А я заметил после, что
мне бывает неловко смотреть в глаза трем родам людей — тем, которые гораздо
хуже меня, тем, которые гораздо лучше меня, и тем, с которыми мы не решаемся
сказать друг другу вещь, которую оба знаем».
«В то время как они играли, я
наблюдал их руки. У Володи была большая, красивая рука; отдел
большого пальца и выгиб остальных, когда он держал карты, были так похожи на
руку папа, что мне даже одно время казалось, что Володя нарочно так держит
руки, чтоб быть похожим на большого; но, взглянув на его лицо, сейчас видно
было, что он ни о чем не думает, кроме игры. У Дубкова, напротив, руки
были маленькие, пухлые, загнутые внутрь, чрезвычайно ловкие и с мягкими пальцами;
именно тот сорт рук, на которых бывают перстни и которые принадлежат людям,
склонным к ручным работам и любящим иметь красивые вещи» (2, 115).
Подразделение одного и того же чувства на
различные виды и выяснение эмоционального строя, свойственного определенному
возрасту:
«. . .Мечтания каждого человека и каждого
возраста имеют свой отличительный характер. В тот период времени,
который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний
были четыре чувства: любовь к ней, к воображаемой женщине, о которой я
мечтал всегда в одном и том же смысле и которую всякую минуту ожидал
где-нибудь встретить... Второе чувство было любовь любви. Мне хотелось,
чтобы все меня знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя: Николай Иртеньев, и чтобы все были поражены этим известием, обступили
меня и благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство было — надежда на
необыкновенное, тщеславное счастье, — такая сильная и твердая, что она
переходила в сумасшествие... Четвертое и главное чувство было отвращение к
самому себе и раскаяние, но раскаяние до такой степени
слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального» (2, 84—85).
Характеристика одного человека, который
как бы совмещает в себе свойства двух разных людей:
«В нем (в Нехлюдове.— Б. Б.) было два
различные человека, которые оба были для меня прекрасны. Один, которого я горячо любил, добрый, ласковый, кроткий, веселый
и с сознанием этих любезных качеств... Другой — которого я
только теперь начинал узнавать, и перед величавостью которого преклонялся, был
человек холодный, строгий к себе и другим, гордый, религиозный до фанатизма и
педантически нравственный» (2, 83).
Не буду умножать примеров. Да
и не в них, собственно, дело. Главное вовсе не в том, что у языка Толстого
есть такая особенность, которая определяется склонностью этого писателя к
рассуждениям о различных психологических и моральных качествах. Это с избытком
бывало и у других писателей. Много места подобного рода рассуждения занимают,
например, у Фильдинга. Главное в том, что интерес
Толстого к природе человеческого ума и характера, как таковой, не ослабляет,
а, напротив, усиливает его социальный анализ. Говоря о людях и их свойствах,
взятых в психологическом и моральном плане, Толстой не отступает от своей
основной задачи — выяснения возможностей человека перестроить мир, начиная с
самого себя, согласно своему идеалу.
В самом деле, когда речь заходит о
человеческом уме, Толстой выделяет в нем в первую очередь такие его свойства,
благодаря которым человек и может осуществить свое высокое призвание, или же —
в других, более редких случаях — такие, которые встают как помехи на этом пути.
Приведенные цитаты — прямые тому доказательства. Так, одна из них
устанавливает, что «чувствительную борозду» в человеческом уме оставляют
только хорошие мысли; другая напоминает о такой особенности человеческого ума, как
впитывание им в себя всех лучших достижений человеческой мысли за всю ее
историю; третья интересна тем, что показывает своеобразие Толстого в понимании
происхождения теоретических обобщений: оказывается, они — закрепление
известных состояний человеческой души, иначе говоря, являются проявлениями
определенных индивидуальных человеческих качеств; наконец, последние из
процитированных суждений о силах человеческой души объясняют нам особый
интерес писателя к молодому возрасту, который привлекал его
прежде всего не отравленной горьким опытом надеждой на то, что будущее должно
стать прекрасным.
Толстой далек от чисто внешней
классификации. Говоря о застенчивых людях, он отмечает условие, при наличии
которого застенчивость перестает быть для них помехой и затруднением в их
жизни. Ограниченные люди, оказывается, бывают «особенно приятны именно своей
ограниченностью», позволяющей им постоянно чем-либо увлекаться и при этом быть
чистосердечными. Упрямство же Толстой скорее склонен оценить отрицательно, ибо
оно мешает человеку относиться к себе самокритически и пересматривать свои раз
сложившиеся взгляды.
Что касается деления рода
человеческого на несколько категорий,
то оно нужно было Толстому для характеристики, в определенном аспекте,
психологического склада его героя, человека, всегда озабоченного тем, чтобы
выбрать правильную линию действий в интересах развития своей собственной
индивидуальности, совершенствования ее общечеловеческих качеств.
Итак, Толстой изображает человека в
процессе смены впечатлений — и отсюда интимность, я бы сказал эмоциональность
и духовность языка; в то же время язык его отличается философской мощью и
эпическим величием.
Через смену впечатлений Толстой дает
движение, развитие определенного характера, а это и ведет его к эпичности. Он
исследует историю формирования индивидуума, в которой раскрытие общих
закономерностей становления и движения человеческого духа предстает как
формирование неповторимой человеческой личности. Уже через эту определенную
индивидуальность, предельно конкретную и вместе с тем наполненную в своей важнейшей
тенденции всеобщим содержанием, проступают различные группы складов характера,
относительно односторонних.
То и другое — и своеобразная
«феноменология духа», и, также своеобразная, психологическая и моральная
классификация — стало возможно в таком развернутом виде только в XIX веке, с его проникновением в диалектику
становления и развития человеческой сущности. В XVIII столетии неспокойное движение
человеческого характера воспринималось еще преимущественно как отклонение от
нормы.
Таким образом, открытия, сделанные молодым
Толстым в области языка, неотделимы от его общих художественных открытий.
Можно лишь добавить, что в первых его
произведениях — в смысле их языка — еще заметны усилия, с помощью которых
усваиваются новые художественные принципы: прямые рассуждения, обобщения и
классификации. Для вполне зрелого Толстого это вовсе не характерно.
Легко было бы показать, что
толстовская художественная ткань проникнута сквозной прослойкой философских
рассуждений и определений. Приведенные примеры, думается мне, достаточно
подтверждают это. Однако не в этом только своеобразие языка Толстого.
Философские определения в толстовском художественном тексте являются
одновременно и конкретными художественными характеристиками. Их нельзя
рассматривать как какой-то довесок ко всему остальному тексту. Они входят в
него равноправным элементом. Дело вовсе не так обстоит, что конкретные
изображения Толстой дополняет рассуждениями, например, о свойствах и законах
движения человеческого ума, о том, что бывают на свете люди застенчивые,
ограниченные, упрямые, или же о сочетании в одном человеке различных, порою
противоположных свойств.
Нет, сами изображения порождают у Толстого
умозаключения, которые лишь завершают те или иные линии в изображении, а
потому в свою очередь становятся изображениями.
Говорят, стиль — это человек. Стиль
Толстого — одно из прекрасных подтверждений этого положения. В некоторых
частностях стиль «Детства» соприкасается со стилем Стерна и Руссо, Тёпфера и Диккенса. Работая над этой повестью, Толстой еще
не чувствовал полной свободы в «форме выражения», порою действительно испытывал
зависимость от опытных мастеров, в числе которых сам называет Стерна и Тёпфера. По существу же своему стиль Толстого принципиально
отличается от стиля и Стерна и Тёпфера. То, как рассказывает
человек, зависит от того, о чем он рассказывает. В центре рассказа или повествования
Толстого стоит человек в его отношении к миру. В последнем
счете этой мерой определяется требование к слову и построению фразы, ко всему
способу изложения, к обрисовке героев и событий. В событии Толстой
всегда ищет человеческое содержание, — как здесь сказался характер той или
иной личности или тех или иных личностей.
Каждый изображенный в автобиографической
трилогии факт воспринимается как ничем особенно не примечательный, рядовой,
обыкновенный и одновременно — как событие большой важности, отмечающее тот или
иной момент в духовном развитии человека, может быть даже крутой поворот в его
отношении к миру. Поэтому толстовское повествование, по видимости такое плавное
и спокойное, исполнено истинного и высокого драматизма.
Перед нами XVIII глава повести «Юность». Делая визиты,
Николенька заехал к Валахиным. В детские годы он был
влюблен в Сонечку Валахину. С тех пор прошло много
лет, оба они — Николенька и Сонечка — стали, по сути, взрослыми. Новая встреча
— большое событие в их жизни.
Подобные случаи не так редко встречаются.
И Толстой не придает этому эпизоду характерного, тем более
исключительного значения. Весь эпизод он подает как самый обыкновенный,
всем людям напоминающий, что нечто похожее было и в их жизни. Внимание его, Толстого,
сосредоточено не на том, чтобы придать характер неповторимости этому эпизоду, а
на выяснении того, что происходило с его героем, оказавшимся в ситуации, так
часто встречающейся в жизни. А то, что происходило с ним, было и обыкновенно
и в то же время совершенно необыкновенно. Он переживал то, что до
него было пережито другими бесчисленное количество раз. Но он, Николенька Иртеньев, переживал это в первый раз.
Так строя этот эпизод, Толстой
общечеловеческой ситуации придает индивидуально-неповторимый характер, а с
другой стороны, в индивидуально-неповторимом факте раскрывает его общечеловеческое
содержание.
Николенька уже три года не виделся с
Сонечкой. Детская любовь к ней «давным-давно» прошла, но воспоминания об этой
любви прочно сохранились в его душе. Иногда он вспоминал о Сонечке, воображал,
что снова влюблен в нее, но это воображение не удерживалось сколько-нибудь
продолжительно. Обо всем этом он думает по дороге к Валахиным,
а заодно представляет себе картину встречи с Сонечкой.
Ему было известно, что Соня
изменилась, подурнела, но Николенька старался забыть об этом. «Дорогой к ним я живо вспоминал о прежней Сонечке и думал о том, какою
теперь ее встречу. Вследствие двухлетнего пребывания ее за границей я
воображал ее почему-то чрезвычайно высокой, с прекрасной талией, серьезной и
важной, но необыкновенно привлекательной. Воображение мое отказывалось
представлять ее с изуродованным шрамами лицом; напротив, слышав
где-то про страстного любовника, оставшегося верным своему предмету, несмотря
на изуродовавшую его оспу, я старался думать, что я влюблен в Сонечку, для
того, чтобы иметь заслугу, несмотря на шрамы, остаться ей верным. Вообще,
подъезжая к дому Валахиных, я не был влюблен, но,
расшевелив в себе старые воспоминания любви, был хорошо приготовлен влюбиться
и очень желал этого; тем более, что мне уже давно было
совестно, глядя на всех своих влюбленных приятелей, за то, что я так отстал от
них» (2, 126-127).
Попав в традиционную ситуацию, толстовский
герой сначала и переживает ее традиционно, более того — шаблонно. Но в этой
шаблонности уже заложено ее отрицание: стараясь думать и чувствовать, как,
другие, герой подозревает, что все это выглядит довольно смешно.
Все дальнейшее развитие сцены является
продолжением шаблонности положения. Свидание с возлюбленной детских лет
превращается в истинное мучение для Николеньки, заурядный эпизод приобретает
силу большого художественного обобщения, знаменуя собой новаторский способ
раскрытия давным-давно освященных и общепринятых форм человеческих отношений.
Ведь герой Толстого всего-навсего делает визиты...
Вот наконец он увидел перед собою детскую
любовь: «Ей было семнадцать лет. Она была очень мала ростом, очень худа и с
желтоватым нездоровым цветом лица. Шрамов на лице не было заметно никаких, но
прелестные выпуклые глаза и светлая, добродушно веселая улыбка были те же,
которые я знал и любил в детстве» (2, 127).
Тон, как видим, вполне серьезный, немного
грустный. Но он тут же перебивается ироническим замечанием:
«Я совсем не ожидал ее такою и поэтому
никак не мог сразу излить на нее то чувство, которое приготовил дорогой».
В сознании героя Соня, созданная его
воображением, столкнулась с действительной Соней. И герой растерялся, не знал,
как себя вести. Он оказался в неестественном положении и утратил свободу
управлять собою.
Сонечка старалась вернуть Николеньку в мир
воспоминаний, вызвать в нем сожаление о прошедшем, которое было так
много лучше настоящего. Насколько она владела собою, придавая обычность
всему происходящему, настолько он был неестествен, что придавало необычность их
встрече.
« — Как вы переменились! — говорила она, —
совсем большой стали. Ну, а я — как вы находите?
— Ах, я бы вас не узнал, — отвечал я,
несмотря на то, что в это самое время думал, что я всегда бы узнал ее. Я
чувствовал себя снова в том беспечном веселом расположении духа, в котором я
пять лет тому назад танцевал с ней гросфатер на бабушкином бале.
— Что ж, я очень подурнела? — спросила
она, встряхивая головкой.
— Нет, совсем нет, выросли немного, старше
стали, — заторопился я отвечать, — но напротив... и даже...»
Соня говорит то, что она действительно
думает. Николенька все время замечает разлад между своими мыслями и словами.
Но это происходит совсем не потому, что он избегает правды; ему никак не
удается определить для самого себя то, как же он относится ко всему происходящему.
На протяжении, очевидно, какого-нибудь получаса его состояние меняется
несколько раз.
По дороге к Валахиным
он представлял себя страстным любовником, который сохранит верность своей возлюбленной,
несмотря на то что она стала уродливой. Увидев
Сонечку, он понял, каким смешным был, когда воображал себя в такой вот роли.
Соня осталась прежней. Но ведь прежнюю Соню он любил! Как же быть в
таком случае? Перед ним встала новая задача. Между тем Соня только вспоминала
прошлое.
« — Ах, славное время было, — продолжала
она, и та же улыбка, даже лучше той, которую я носил в воспоминании, и все те
же глаза блестели передо мною. В то время, как она
говорила, я успел подумать о том положении, в котором я находился в настоящую
минуту, и решил сам с собою, что в настоящую минуту я был влюблен. Как только я
решил это, в ту же секунду исчезло мое счастливое, беспечное расположение
духа, какой-то туман покрыл все, что было передо мной,— даже ее глаза и улыбку,
мне стало чего-то стыдно, я покраснел и потерял способность говорить».
Сонечка оставалась все такой же.
« — Где все теперь тогдашние Ивины, Корнаковы? Помните? — продолжала она, с некоторым
любопытством вглядываясь в мое раскрасневшееся испуганное лицо, — славное было
время!
Я все-таки не мог отвечать» (2, 128).
Перед нами два типа
человеческого поведения. Сонечка живет в общем по
стандарту: было детство, прошло детство, наступило другое время, теперь о
детстве можно только вспоминать. Николенька не хочет расставаться с тем, что
было таким хорошим в детстве, он хочет сохранить в себе все лучшее от тех лет,
борется с самим собою, перерабатывает самого себя, попадая в смешные, даже
нелепые положения.
Двум типам человеческого поведения
соответствуют и два типа речевых характеристик. Сонечка говорит правильно,
нормально; Николенька, напротив, сбивчиво, путано, противоречит самому себе,
все время ловит себя на том, что слова его не совпадают с мыслями.
Но как раз речевая характеристика
Николеньки наиболее глубоко выражает стихию языка Толстого.
Николенька не настроен
отдаться воспоминаниям. Он хочет жить в каждую данную минуту. И от этого ему
так трудно. Лишь приход Сонечкиной матери облегчил
его тяжелое положение. Когда Сонечка ушла, ему стало еще лучше, хотя какая-то
скованность все же оставалась. «Валахина
расспрашивала про родных, про брата, про отца, потом рассказала мне про свое
горе — потерю мужа, и уже, наконец, чувствуя, что со мной говорить больше
нечего, смотрела на меня молча, как будто говоря: «ежели
ты теперь встанешь, раскланяешься и уедешь, то сделаешь очень хорошо, мой
милый...»
Николенька хорошо понимал, чего от него
ждут, но он не делал того, что должен был сделать. Он опять вспомнил, что
влюблен, подумал, что мать Сонечки догадалась об этом, и им с новой силой
овладел «припадок застенчивости». «Я знал, что для того, чтобы встать и уйти, я
должен буду думать о том, куда поставить ногу, что сделать с головой, что с
рукой, одним словом, я чувствовал почти то же самое, что и вчера, когда выпил
полбутылки шампанского. Я предчувствовал, что со всем этим я не управлюсь, и
поэтому не мог встать, и действительно не мог встать» (2, 129).
На помощь пришел случай.
Появился поверенный в делах Сонечкиной матери, и она
сказала, что ей необходимо с ним поговорить. Наступила развязка затянувшегося
положения. «Кое-как сделав страшное усилие над собою, я
встал, но уже не был в состоянии поклониться и, выходя, провожаемый взглядами
соболезнования матери и дочери, зацепил за стул, который вовсе не стоял на моей
дороге,— но зацепил потому, что все внимание мое было устремлено на то, чтобы
не зацепить за ковер, который был под ногами» (2, 130).
Стараясь избежать одной неловкости, герой
допускает другую. И это не в первый раз. Он слишком занят собою, чтоб все
делать как надо. А занят собою он потому, что, встретившись со
взрослой девушкой, в которую был влюблен в далекие детские годы, он сразу
хочет определить, как следует относиться к ней. Ему хочется прошлое перенести
в настоящее, а соединить то и другое невозможно. Комические
ситуации становятся неизбежными. Однако за этим комизмом скрывается
глубокий драматизм: фактически Николенька теряет Сонечку, которая была для
него так дорога, такое большое место занимала в его жизни. Но, с другой
стороны, ведь это неизбежность, а с неизбежностью можно только примириться.
Комичность ситуаций оказалась наилучшей формой разрешения такого противоречия,
как неосознанная боль утраты и наивные попытки не допустить ее, не замечая хода времени.
Глава о визите Николеньки к Валахиным очень своеобразна по
своему построению и по языку. Но и всякая другая глава «Юности», «Отрочества»
или «Детства» также обладает своими особенностями, сквозь которые, однако, со
всей очевидностью проступает общая оригинальность толстовского языка.
А. П. Скафтымов
в уже упоминавшейся статье метко и сильно писал о способе обрисовки Толстым
своего персонажа.
«Человек — величина
переменная. Это обстоятельство для Толстого-моралиста имело особо важное значение. В поисках постоянных моральных опор
этот сменяющийся поток психики нужно было или преодолеть какими-то иными открытиями,
или совсем отказаться от всякой возможности остановиться. И Толстой,
непрерывно фиксируя и изображая изменчивость, на протяжении своего творчества
оспаривает ее морально-нивелирующий смысл, «историей души» доказывая себе
самому и читателю свою железную и постоянную мысль о
натуральной укорененности «должного». Весь смысл
обрисовки сложных и противоречивых состояний в конце
концов всегда сводится к тому, чтобы показать, как живет, заслоняется или,
наоборот, пробуждается, и за хором гетеромного или
верхнего, тихо или громко, звучит голос «натуры», живой искренности».
В доказательство этой мысли приводятся
такие примеры: состояния Михайлова и Праскухина в
разгаре боя, состояние Пьера перед женитьбой на Элен
и т. д. Особо выделяется состояние Андрея Болконского на Аустерлицком
поле сражения.
«По структуре рисунка, отвечающего заданию
автора, читатель должен вместе с Андреем отвергнуть этот тщеславный мир
соревнований, кровавых раздоров и принять спокойную величавость в настроении
Андрея, как прикосновение к конечной решающей правде, перед которой слишком
ничтожен этот мир слепой человеческой суеты. Так это
показано, и в этом нельзя не видеть присутствия авторского осуждающего
отрицания и призывающего утверждения («Как тихо, спокойно и торжественно, совсем
не так, как я бежал, не так, как мы бежали, кричали и дрались... совсем не так
ползут облака по этому высокому, бесконечному небу. Как же я не видал
прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его
наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного
неба»). «Диалектика души» состоит в том, что душа, по показу Толстого,
как бы сама в конце концов выбрасывает ложное, прежде
казавшееся столь значительным, ив свете открывшихся последних, коренных
инстанций самоощущения, обнаружившее свою фальшивую иллюзорность»[15].
Может быть, это самая
вдумчивая характеристика обрисовки человеческой личности у Толстого из всех,
какие только встречаются в научной литературе нашего времени о Толстом. И все-таки безусловно согласиться с А. П. Скафтымовым
едва ли возможно. В его характеристике Толстой сложен, однако, это какая-то
однолинейная сложность, заключающаяся будто бы в том, что Толстой-моралист,
которому нужны были твердые основания в человеческом характере, боролся с
Толстым-художником, видевшим непрестанную изменчивость и текучесть человеческого
характера, — и моралист побеждал художника. Между тем Толстой и как моралист и
как художник в своих художественных произведениях чаще сливался в одно целое, а
не только разделялся на враждующие начала.
Да, бывают остановки в движении
толстовских героев, и тогда абстрактный догматический морализм Толстого и его
вера в спасительную силу «натуры» выступают со всей очевидностью и дают о себе
знать в самом строе языка. Однако такие моменты все-таки не такое большое место
занимают в общем ходе повествования. Затем, в них есть не только то, о чем
пишет А. П. Скафтымов. Когда Праскухин
лежит перед бомбой, которая убьет его через несколько мгновений, и вспоминает позорные факты своей жизни, это
вовсе не есть следствие победы в нем «натуры». Он остался
каким и был, так как сочиняет лживую историю, которую собирается
рассказать своим друзьям, если останется в живых. Он ничего не осуждает в самом
себе, ни от чего не отрекается, но перед лицом смерти с острой обидой сознает
свое ничтожество, хотя, судя по всему, и раньше не забывал об этом.
Другое дело — Андрей Болконский. В его
состоянии на Аустерлицком поле сражения есть элемент,
который можно назвать догматическим морализмом, отвергающим все «временное» и
признающим одно только «вечное». В связи с этим в языке князя Андрея появляется
оттенок некоторой молитвенности, вообще религиозной
восторженности и отрешенности.
И все же то, что случилось с князем
Андреем, нельзя рассматривать лишь как победу истины, заключенной в натуре, над наносным и неестественным. Главная причина переворота в
душе героя заключается в том духовном, а
следовательно, и социальном опыте, который у него сложился к этому моменту. Он
и разговаривает сам с собою преимущественно как человек, так много узнавший и
увидевший в жизни. Этот огромный духовный опыт остается при нем и в то
мгновение, когда он смотрит в «бесконечное небо», признавая, что лишь оно одно
неоспоримо, — а потому состояние, в котором он находится, не окончательно и
таит в себе возможность перехода в другое качество.
Толстовское моралистическое утверждение
абстрактно, однако в нем содержится момент отрицания бесчеловечного,
а потому — залог новых исканий. Пример с небом Аустерлица достаточно
убедителен.
Вообще Толстой редко, и то большей частью
в последний период своего творчества, приводил того или иного героя к его
последнему состоянию. Как правило, толстовский герой — человек, все время
ищущий себя, желающий уяснить свою собственную сущность, которая оказывается
почти неуловимой для него, так как всякую иную минуту делается иной, хотя
и остается той же самой.
Так, например, Николенька Иртеньев, встретившись с Нехлюдовым, стал не совсем тот,
каким был раньше (у него теперь появилось сознательное стремление к добродетели
и к откровенности), тем не менее он оставался
все тем же, ибо новые качества назревали в нем постепенно.
Здесь необходимо отметить вторую главную
особенность языка Толстого, которая явилась следствием предельной
художественной конкретности и отсутствия описаний: герой живет всякую данную
минуту, которая ценна именно сама по себе, а потому он никогда не повторяет
самого себя, но при этом сохраняет в себе все пережитое.
Обычно, когда говорят об особенностях
толстовского героя, отмечают сложность и противоречивость его духовного мира.
Все это верно. Однако этим ограничиваться нельзя. Не один только толстовский
герой сложен и противоречив по своим духовным устремлениям. Отличительная
черта толстовского героя в том, что он беспрерывно погружается в самого себя,
словно хочет добраться до того дна, которое составляет его первооснову.
Конечно, первооснова в нем есть, но она так же подвижна и изменчива, как и все
другие его качества. Неизменно в нем лишь одно: неутомимость исканий и
совершенствования себя как человеческой личности.
Те две главных особенности языка Толстого,
на которые только что было указано, характеризуют, с одной стороны, собственно
авторский язык, а с другой — природу мысли и языка толстовских героев. Это два
свойства одного и того же явления. В своих мыслях и словах герой более детально
и более динамично раскрывает ту свою человеческую сущность, которая гораздо
обобщеннее дана собственно в авторском тексте.
Толстовский герой, как это
явствует из всех тех его особенностей, о которых уже много говорилось, постоянно
занят самим собою, теми процессами, которые непрерывно совершаются в его
духовном мире. Он много думает о себе и о жизни, но, пожалуй, еще больше думает
над тем, как он думает. Этот ход его размышлений обычно передается путем
внутреннего монолога. Чернышевский первый указал на эту особенность
толстовского героя, а следовательно, и толстовского
языка. Впоследствии критики не раз писали о внутреннем монологе у Толстого.
Может быть, наиболее удачную характеристику его сделал В. В. Стасов в письмах
к самому Толстому. Привожу отрывок из его письма от 20 января 1882 года:
«Уже один язык
выработался у вас до такой степени простоты, правды и совершенства, какую я
находил еще только в лучших созданиях Гоголя. А потом эти разговоры —
solo, с самим собою, и сапожника, и его жены (имеется
в виду рассказ «Чем люди живы».— Б. Б.),— какое это
совершенство!! Почти у всех разговор действующего лица с самим собою является
чем-то искусственным, условным и невероятным по форме. У вас же — это одна из
высших ваших сил по правде и истинности. Разговоры solo
с самим собою, неправильное и капризное течение мыслей у человека являлись
у вас chef d`oeuvre`ами
всегда, еще когда вы писали разные сцены князя Андрея
в «Войне и мире», в «Детстве и отрочестве», в «Метели» и
т. д.; на мои глаза, эти разговоры с самим собою были еще выше и глубже у Анны
Карениной; но нынче, на мои глаза, эти разговоры вышли с еще большей силой и
правдой у сапожника и его жены (ждущей возвращения мужа), потому что они так
сжаты, так естественны, так быстры»[16].
В. В. Стасов, однако, ограничился простой
констатацией факта. Не пошли дальше и другие критики
и историки литературы, писавшие на эту тему. В наше время все суждения такого
порядка обобщены в упоминавшейся работе В. В. Виноградова «О языке Толстого».
Но и В. В. Виноградов, давший глубокую и развернутую характеристику
толстовского внутреннего монолога, не поставил вопроса об особой природе
героя, как источнике такого монолога.
То, что толстовский
внутренний монолог синтаксически беспорядочен, еще не объясняет корней и
назначения его. Интересно, что Стасов признает наличие у Толстого неудовлетворительных
монологов, которые отличаются относительной правильностью построения, выработанностью[17].
По Стасову получается, что в таких случаях Толстой допускал какие-то
художественные промахи. Конечно же, это не так.
Разговаривая с самим собою, толстовский
герой хочет разобраться в тех изменениях, которые всегда его сопровождают.
Нельзя сказать, что ему вполне удается это. Тут и не могло быть полной удачи.
Раз все меняется в человеке, исключая постоянные требования его к самому себе,
то ему, разумеется, и недоступно логически стройно передать весь этот процесс.
В этом причина затрудненности, кажущейся разбросанности и даже некоторой алогичности
его внутренней речи.
Внутренний монолог — одна из форм
выражения самой сущности толстовского реализма. Да, иногда он действительно
традиционно правилен. В частности, это относится к автобиографической трилогии.
Здесь герой свою внутреннюю речь по большей части строит синтаксически
правильно и логически последовательно. Такие случаи встречаются и в других,
более поздних произведениях Толстого. Словом, Толстой по-разному строит
внутренние монологи, и это зависит от их тематики.
В главе, посвященной посещению Николенькой
Валахиных, внутренний монолог Николеньки занимает
большое место, в значительной своей части он движется параллельно диалогу
между Николенькой и Сонечкой. В данном случае перед нами наиболее типичный для
Толстого внутренний монолог. Перерастая в диалог, а затем
переплетаясь с диалогом, он отличается всеми теми особенностями, которые
делают его крупнейшим завоеванием в русской и мировой литературе. Это —
монолог-рассуждение, монолог-спор с самим собою, который затем перерастает в
диалог, являющийся спором с другими людьми. Такой монолог-спор возникает тогда,
когда необходимо принять какое-то важное решение, обсудить с самим собою
какой-то большой вопрос, от которого зависит характер своего собственного
поведения или отношения к другим лицам.
Другой тип внутреннего монолога —
монолог-мечта, монолог-фантазия, обычно отличающийся правильностью построения и
последовательным течением мысли, которая, правда, как правило, внезапно и круто
обрывается каким-нибудь вопросом, ставящим под сомнение или вовсе отрицающим
все, что вот только сейчас вызывало восхищение. К такого рода монологам относится внутренний монолог
Николеньки, занимающий большую половину третьей главы «Юности» («Мечты»).
В большинстве случаев внутренний монолог
предшествует и сопутствует диалогу, а то и является продолжением его. Это
естественно. В ожидании встречи с другим человеком толстовский герой заранее
переживает эту встречу в своем воображении, готовится к ней. И это выражается в
его внутреннем монологе. Разговаривая, он не исчерпывает свою мысль словами;
его мысль течет не в одном, а в нескольких, пускай и пересекающихся руслах, и
ему невозможно при этом обойтись без внутреннего монолога. Разговор двух
толстовских героев почти никогда не завершает тему, он, следовательно,
оставляет место для внутреннего монолога.
Но если внутренний монолог у Толстого
довольно обстоятельно изучен, то толстовскому диалогу уделено значительно
меньше внимания. Между тем для понимания структуры толстовского характера
диалог не менее важен, чем монолог.
Герой Толстого хочет понять другого едва
ли не в такой же степени, как и самого себя: лишь в отношениях с другими он
познает, а следовательно, и совершенствует себя. И поэтому ему надо проникнуть не только в собственное «я», но и в другого,
а также и то, чтобы другой проник в него самого.
Николенька поссорился со своим братом
Володей. Они целый день не разговаривали. Наступил вечер, Николенька
чувствовал, что надо прекратить такое положение.
«Проходя мимо
Володи, несмотря на то, что мне хотелось подойти и помириться с ним, я надулся
и старался сделать сердитое лицо. Володя в это самое время поднял голову и с
чуть заметной, добродушно-насмешливой улыбкой смело посмотрел на меня. Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня и то,
что я понимаю, что он понимает меня» (2, 19; курсив мой. — Б.
Б.).
Другой пример, опять из «Юности».
В доме Корнаковых
Николеньке сказали, что их с братом считают наследниками богатого князя Ивана
Ивановича. Николеньку это неприятно поразило. Подъезжая к дому князя, он ни о
чем другом не думал, как только об этом. Положение наследника ему не нравилось
потому, что, как ему казалось, оно вызывало чувство недоброжелательства со
стороны князя и его близких. Николенька предполагал,
что все они думают о нем одно только худое. Внимание князя вызывало в нем чувство,
близкое к отвращению: «чем больше он был ласков, тем больше мне все казалось,
что он хочет обласкать меня только с тем, чтобы не дать заметить, как ему неприятна
мысль, что я его наследник. Он имел привычку — происходившую
от фальшивых зубов, которых у него был полон рот,— сказав что-нибудь, поднимать
верхнюю губу к носу и, производя легкий звук сопения, как будто втягивать эту
губу себе в ноздри, и когда он это делал теперь, мне все казалось, что он про
себя говорил: «мальчишка, мальчишка, и без тебя знаю: наследник, наследник»,
и т. д.» (2, 136—137).
В этом случае перед нами скорее, если
можно так сказать, одностороннее проникновение одного характера в другой. По
всей видимости, князь Иван Иванович совсем не считал Иртеньевых
своими наследниками, а значит, у него и нет тех мыслей, которые приписывает ему
Николенька. Однако если бы действительно князь Иван Иванович относился к Иртеньевым как к наследникам, то все было бы несомненно так, как представляется Николеньке. И потому
его нравственные страдания имеют под собою вполне реальную почву.
Обо всем случившемся Николенька рассказал
своему другу Нехлюдову. Тот попытался объяснить Николеньке его истинное
положение.
« — Знаешь что? Ты не прав.
Или тебе не должно вовсе предполагать, чтоб о тебе могли думать так же, как об
этой вашей княжне какой-то, или ежели уж ты предполагаешь это, то предполагай
дальше, т. е. что ты знаешь, что о тебе могут думать, но что мысли эти так
далеки от тебя, что ты их презираешь и на основании их
ничего не будешь делать. Ты предполагай, что они
предполагают, что ты предполагаешь это... но, одним словом,— прибавил он,
чувствуя, что путается в своем рассуждении, гораздо лучше вовсе и не
предполагать этого» (2, 137—138; курсив
мой.— Б. Б.).
В более поздние годы Толстой едва ли
прибегал к фразам, подобным этой или чуть ранее приведенной. Такие фразы
слишком обнажали духовную структуру толстовского героя. Со временем он
становился все более сложным, но Толстой полностью преодолел какой-бы то ни было схематизм в раскрытии этой его
сложности.
Как и всякий другой писатель, Толстой в
диалоге сталкивает два в той или иной степени различных мнения, два особенных
человеческих характера. Однако его интересует не столько то, какое из этих
мнений справедливо, а какое ошибочно, сколько то, чтобы сделать новый шаг в
раскрытии возможностей, заложенных в каждом характере. Разговаривая с другим,
толстовский герой занят и тем, чтобы сообщить свою мысль другому и
самому понять его мысль, и одновременно в не меньшей степени тем, чтобы
разобраться в происходящем с ним самим. В этом причина частого сплетения у
Толстого диалога и внутреннего монолога. Скрытый, еще неуловимый ход мысли для
толстовского героя зачастую куда более важен, чем определившаяся точка зрения,
которую он открыто отстаивает в разговоре с другим.
В том, что он говорит другому, выражается уже более или менее
отстоявшееся, в той или иной мере подлежащее отмене мнение, а в смутном ходе
мысли, которая еще не поддается отчетливому словесному выражению, зреет его
новое, будущее состояние. В этом одна из причин сдержанности толстовского героя
на слова.
Разумеется, язык Толстого изменялся на
протяжении его творческого пути, и — больше того — в каждом его произведении он
оригинален. Но мне хотелось отметить здесь лишь те общие особенности языка
Толстого, в которых явственно находят свое выражение наиболее характерные
признаки толстовского реализма, как он сказался в его ранних произведениях.
Источник: Бурсов Б. Лев Толстой. Идейные
искания и творческий метод. 1847-1862. - М.: Государственное издательство
художественной литературы, 1960.