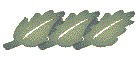 |
ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО |
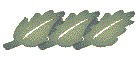 |
Статья-рецензия Н. Г.
Чернышевского «Детство и Отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. СПБ. 1856.
Военные рассказы графа Л. Н. Толстого. СПБ. 1856» была опубликована в журнале «Современник», 1856, № 8.
В настоящем издании
печатается с сокращениями.
«Чрезвычайная
наблюдательность, тонкий анализ душевных движений, отчетливость и поэзия в
картинах природы, изящная простота — отличительные черты таланта графа
Толстого». Такой отзыв вы услышите от каждого, кто только следит за
литературою. Критика повторяла эту характеристику, внушенную общим голосом, и,
повторяя ее, была совершенно верна правде дела.
Но неужели ограничиться
этим суждением, которое, правда, заметило в таланте графа Толстого черты,
действительно ему принадлежащие, но еще не показало тех особенных оттенков,
какими отличаются эти качества в произведениях автора «Детства», «Отрочества»,
«Записок маркера», «Метели», «Двух гусаров» и «Военных рассказов»?
Наблюдательность, тонкость психологического анализа, поэзия в картинах природы,
простота и изящество — все это вы найдете и у Пушкина, и у Лермонтова, и у г.
Тургенева, - определять талант каждого из этих писателей только этими
эпитетами было бы
справедливо, но вовсе
недостаточно для того, чтобы отличить их друг от друга; и повторить то
же самое о графе Толстом еще не значит уловить отличительную физиономию его
таланта, не значит показать, что этот прекрасный талант отличается от многих
других столь же прекрасных талантов. Надобно было охарактеризовать его точнее.
Нельзя сказать, чтобы
попытки сделать это были очень удачны. Причина неудовлетворительности их
отчасти заключается в том, что талант графа Толстого быстро развивается, и
почти каждое новое произведение обнаруживает в нем новые черты. Конечно, все,
что сказал бы кто-нибудь о Гоголе после «Миргорода», оказалось бы недостаточным
после «Ревизора», и суждения, высказавшиеся о г. Тургеневе, как авторе «Андрея
Колосова» и «Хоря и Калиныча», надобно было во многом
изменять и дополнять, когда явились его «Записки охотника», как и эти суждения оказались недостаточными, когда он написал новые
повести, отличающиеся новыми достоинствами. Но если прежняя оценка
развивающегося таланта непременно оказывается недостаточною при каждом новом
шаге его вперед, то, по крайней мере, для той минуты, как является, она должна
быть верна и основательна. Мы уверены, что не дальше, как
после появления «Юности», то, что мы скажем теперь, будет уже нуждаться в
значительных пополнениях: талант графа Толстого обнаружит перед нами новые
качества, как обнаружил он севастопольскими рассказами стороны, которым не было
случая обнаружиться в «Детстве» и «Отрочестве», как потом в «Записках маркера»
и «Двух гусарах» он снова сделал шаг вперед. Но талант этот, во всяком
случае, уже довольно блистателен для того, чтобы каждый период его развития
заслуживал быть отмечен с величайшею внимательностью. Посмотрим же, какие
особенные черты он уже имел случай обнаружить в произведениях, которые известны
читателям нашего журнала.
Наблюдательность у иных
талантов имеет в себе нечто холодное, бесстрастное. У нас замечательнейшим
представителем этой особенности был Пушкин. Трудно найти в русской литературе
более точную и живую картину, как описание быта и привычек большого барина
старых времен в начале его повести «Дубровский». Но трудно решить, как думает
об изображаемых им чертах сам Пушкин. Кажется, он готов был бы отвечать на этот
вопрос: «Можно думать различно; мне какое дело, симпатию или антипатию возбудит
в вас этот быт? я и сам не могу решить, удивления или негодования он
заслуживает». Эта наблюдательность — просто зоркость глаза и памятливость. У
новых наших писателей такого равнодушия вы не найдете; их чувства более . ум более точен в своих суждениях. Не с равною охотою
наполняют они свою фантазию всеми образами, какие только встречаются на их
пути; их глаз с особенным вниманием всматривается в черты, которые принадлежат
сфере жизни, наиболее их занимающей. Так, например, г. Тургенева особенно
привлекают явления, положительным или отрицательным образом относящиеся к тому,
что называется поэзиею жизни, и к вопросу о гуманности. Внимание
графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются
из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из
данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний,
представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к
прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по всей цепи
воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим
мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями,
мечты о будущем с рефлексиею о настоящем.
Психологический анализ может принимать различные направления: одного поэта
занимают всего более очертания характеров; другого — влияния общественных
отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертого — анализ страстей; графа
Толстого всего более — сам психический процесс, его формы, его законы,
диалектика души, чтобы выразиться определительным термином.
Из других замечательнейших
наших поэтов более развита эта сторона психологического анализа у Лермонтова;
но и у него она все-таки играет слишком второстепенную
роль, обнаруживается редко, да и то почти в совершенном подчинении анализу
чувства. Из тех страниц, где она выступает заметнее, едва ли не самая
замечательная — памятные всем размышления Печорина о своих отношениях к княжне
Мери, когда он замечает, что она совершенно увлеклась им, бросив кокетничанье с
Грушницким для серьезной страсти.
«Я часто себя спрашиваю,
зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не
хочу и на которой никогда не женюсь» и т. д. «Из чего же я хлопочу? Из зависти
к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того
скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие
заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в
отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить:
— Мой друг, со мною было
то же самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно, и,
надеюсь, сумею умереть без крика и слез...» и т. д.
Тут яснее, нежели
где-нибудь у Лермонтова, уловлен психический процесс возникновения мыслей,— и,
однако ж, это все-таки не имеет ни малейшего сходства с теми изображениями хода
чувств и мыслей в голове человека, которые так любимы графом Толстым. Это вовсе
не то, что полумечтательные, полурефлективные
сцепления понятий и чувств, которые растут, движутся, изменяются перед нашими
глазами, когда мы читаем повесть графа Толстого - это не имеет ни малейшего сходства с его
изображениями картин и сцен, ожиданий и опасений, проносящихся в мысли его
действующих лиц; размышления Печорина наблюдены вовсе не с той точки зрения,
как различные минуты душевной жизни лиц, выводимых графом Толстым,— хотя бы,
например, это изображение того, что переживает человек в минуту, предшествующую
ожидаемому смертельному удару, потом в минуту последнего сотрясения нерв от
этого удара...
Ни у кого другого из наших
писателей не найдете вы психических сцен, подмеченных с этой точки зрения. И,
по нашему мнению, та сторона таланта графа Толстого, которая давшему
возможность уловлять эти психические монологи, составляет в его таланте
особенную, только ему свойственную силу... Выражаясь фигуральным языком, он
умеет играть не одной этой струной, может играть или не играть на ней, но самая
способность играть на ней придает уже его таланту особенность, которая видна во
всем постоянно. Так, певец, обладающий в своем диапазоне
необыкновенно высокими нотами, может не брать их, если то не требуется его
партией,— и все-таки, какую бы ноту он ни брал, хотя бы такую, которая рано
доступна всем голосам, каждая его нота будет иметь совершенно особенную
звучность, зависящую собственно от способности его брать высокую ноту, и в
каждой ноте его будет обнаруживаться для знатока весь размер его
диапазона.
Особенная черта в таланте
графа Толстого, о которой мы говорили, так оригинальна, что нужно с большим
вниманием всматриваться в неё, и тогда только мы поймём всю ее важность для
художественного достоинства его произведений. Психологический анализ есть едва
ли не самое существенное из качеств, дающих силу творческому таланту. Но
обыкновенно он имеет, если так можно выразиться, описательный характер,— берет
определенное, неподвижное чувство и разлагает сто на составные части,— дает
нам, если так можно выразиться, анатомическую таблицу. В произведениях великих
поэтов мы, кроме этой стороны его, замечаем и другое направление, проявление
которого действует на читателя или зрителя чрезвычайно поразительно: это
уловление драматических переходов одного чувства в другое, одной мысли в
другую. Но обыкновенно нам представляются только два крайних
звена этой цепи, только начало и конец психического процесса,— это потому, что
большинство поэтов, имеющих драматический элемент в своем таланте, заботятся
преимущественно о результатах, проявлениях внутренней жизни, о столкновениях
между людьми, о действиях, а не о таинственном процессе, посредством которого
вырабатывается мысль или чувство; даже в монологах, которые,
по-видимому, чаще всего должны бы служить выражением этого процесса, почти
всегда выражается борьба чувств, и шум этой борьбы отвлекает наше внимание от
законов и переходов, по которым совершаются ассоциации представлений,— мы
заняты их контрастом, а не формами их возникновения,— почти всегда монологи,
если содержат не простое анатомирование неподвижного чувства, только внешностью
отличаются от диалогов: в знаменитых своих рефлексиях
Гамлет как бы раздвояется и спорит сам с собою: его
монологи, в сущности, принадлежат к тому же роду сцен, как и диалоги Фауста с
Мефистофелем, или споры маркиза Позы с Дон-Карлосом.
Особенность таланта графа Толстого состоит в том, что он не ограничивается
изображением результатов психического процесса: его интересует самый процесс,—
и едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с
чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием, мастерски изображаются
графом Толстым. Есть живописцы, которые знамениты искусством уловлять
мерцающее отражение луча на быстро катящихся волнах, трепетание света на
шелестящих листьях, переливы его на изменчивых очертаниях облаков: о них по
преимуществу говорят, что они умеют уловлять жизнь природы. Нечто подобное
делает граф Толстой относительно таинственнейших движений психической жизни. В
этом состоит, как нам кажется, совершенно оригинальная черта его таланта. Из
всех замечательных русских писателей он один мастер на это дело.
Конечно,
эта способность должна быть врождена от природы, как
и всякая другая способность; но было бы недостаточно остановиться на этом
слишком общем объяснении: только самостоятельною (нравственною) деятельностью
развивается талант, и в той деятельности, о чрезвычайной энергии которой
свидетельствует замеченная нами особенность произведений графа Толстого,
надобно видеть основание силы приобретенной его талантом. Мы говорим о
самоуглублении, о стремлении к неутомимому наблюдению над самим собою. Законы
человеческого действия, игру страстей, сцепление событий, влияние обстоятельств
и отношений мы можем изучать, внимательно наблюдая других людей; но все знание.
Приобретаемое этим путём, не будет иметь ни глубины, ни точности, если мы не
изучим сокровеннейших законов психической жизни, игра
которых открыта перед нами только в нашем (собственном) самосознании. Кто не
изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей. Та
особенность таланта графа Толстого, о котором говорили мы выше, доказывает, что
он чрезвычайно внимательно научал тайны жизни человеческого духа в самом себе;
это знание драгоценно не только потому, что доставило ему возможность написать
картины внутренних движений человеческой мысли, на которые мы обратили внимание
читателя, но ещё, быть может, больше потому, что дало ему прочную основу для
изучения человеческой жизни вообще, для разгадывания характеров и пружин
действия, борьбы страстей и впечатлений. Мы не ошибемся, сказав, что
самонаблюдение должно было чрезвычайно изострить вообще его наблюдательность,
приучить его смотреть на людей проницательным взглядом.
Драгоценно в
таланте это качество,
едва ли не
самое прочное из всех прав на славу истинно замечательного писателя.
Знание человеческого сердца, способность раскрывать перед нами его тайны — ведь
это первое слово в характеристике каждого из тех писателей, творения которых с
удивлением перечитываются нами. И, чтобы говорить о графе Толстом, глубокое
изучение человеческого сердца будет неизменно придавать очень высокое
достоинство всему, что бы ни написал он и в каком бы духе ни написал. Вероятно, он напишет много такого, что будет поражать каждого
читателя другими, более эффективными качествами,— глубиною идеи, интересом
концепций, сильными очертаниями характеров, яркими картинами быта — ив тех
произведениях его, которые уже известны публике, этими достоинствами постоянно
возвышался интерес,— но для истинного знатока всегда будет видно — как,
очевидно, и теперь,— что знание человеческого сердца — основная сила его
таланта. Писатель может увлекать сторонами более блистательными; но
истинно силен и прочен его талант только тогда, когда
обладает этим качеством.
Есть в таланте г. Толстого
еще другая сила, сообщающая его произведениям совершенно
особенное достоинство своею чрезвычайно замечательной свежестью —
чистота нравственного чувства. Мы не проповедники пуританизма; напротив, мы
опасаемся его: самый чистый пуританизм вреден уже тем, что делает сердце
суровым, жестким; самый искренний и правдивый моралист вреден тем, что ведет за
собою десятки лицемеров, прикрывающихся его именем. С другой стороны, мы не так
слепы, чтобы не видеть чистого света высокой нравственной идеи во всех
замечательных произведениях литературы нашего века. Никогда общественная нравственность не достигала такого высокого уровня, как в
наше благородное время,— благородное и прекрасное, несмотря на все остатки
ветхой грязи, потому что все силы свои напрягает оно, чтобы омыться и
очиститься от наследных грехов. И литература нашего времени, во всех
замечательных своих произведениях, без исключения, есть благородное проявление
чистейшего нравственного чувства. Не то мы хотим сказать, что в произведениях
графа Толстого чувство это сильнее, нежели в произведениях другого какого из
замечательных наших писателей: в этом отношении все они равно высоки и
благородны, но у него это чувство имеет особенный оттенок. У иных оно очищено
страданием, отрицанием, просветлено сознательным убеждением, является уже
только как плод долгих испытаний, мучительной борьбы, быть может, целого ряда
падений. Не то у графа Толстого: у него нравственное чувство не восстановлено
только рефлексиею и опытом жизни, оно никогда не
колебалось, сохранилось во всей юношеской непосредственности и свежести. Мы не будем сравнивать того и другого оттенка в гуманическом
отношении, не будем говорить, который из них выше по абсолютному значению — это
дело философского или социального трактата, а не рецензии,— мы здесь говорим
только об отношении нравственного чувство к достоинствам художественного
произведения и должны признаться, что в этом случае непосредственная, как бы
сохранившаяся во всей непорочности от чистой поры юношества, свежесть
нравственного чувства придает поэзии особенную — трогательную и грациозную —
очаровательность. От этого качества, по нашему мнению, во многом зависит
прелесть рассказов графа Толстого. Не будем доказывать, что только при этой
непосредственной свежести сердца можно было рассказать «Детство» и «Отрочество»
с тем чрезвычайно верным колоритом, с тою нежною грациозностью, которые дают
истинную жизнь этим повестям. Относительно «Детства» и «Отрочества» очевидно каждому, что без непорочности нравственного чувства
невозможно было бы не только исполнить эти повести, но и задумать их. Укажем
другой пример — в «Записках маркера»: историю падения души, созданной с
благородным направлением, мог так поразительно и верно задумать и исполнить
только талант, сохранивший первобытную чистоту.
Благотворное влияние этой
черты таланта не ограничивается теми рассказами или эпизодами, в которых она выжит она оживительницею, освежительницею таланта. Что в мире поэтичнее, прелестнее
чистой юношеской души, с радостной любовью откликающейся на все, что
представляется ей возвышенным и благородным, чистым и прекрасным, как сама она? Кто не испытывал, как
освежается его дух, просветляется его мысль, облагораживается все существо
присутствием девственного душою существа, подобного Корделии,
Офелии или Дездемоне?[1] Кто не чувствовал, что
присутствие такого существа навевает поэзию на его душу, и не повторял вместе с
героем г. Тургенева (в «Фаусте»):
Своим крылом меня одень,
Волненье сердца утиши,
И благодатна будет сень
Для очарованной души...»[2]
Такова же сила
нравственной чистоты и в поэзии. Произведение, в котором веет ее дыхание,
действует на нас освежительно, миротворно, как
природа,— ведь и тайна поэтического влияния природы едва ли не заключается в ее
непорочности. Много зависит от того же веяния нравственной чистоты и грациозная
прелесть произведений графа Толстого.
Эти две черты – глубокое
знание тайных движений психической жизни и непосредственная чистота нравственного
чувства, придающие теперь особенную физиономию произведениям графа Толстого,
[всегда] останутся существенными чертами его таланта, какие бы новые стороны ни
выказались в нем при дальнейшем его развитии.
Само собою
разумеется, что всегда останется при нем и его художественность. Объясняя
отличительные качества произведений графа Толстого, мы до сих пор не упоминали
об этом достоинстве, потому что оно составляет принадлежность, или, лучше
сказать, сущность поэтического таланта вообще, будучи собственно только
собирательным именем для обозначения всей совокупности
качеств, свойственных произведениям талантливых писателей. Но стоит внимания
то, что люди, особенно много толкующие о художественности, наименее понимают, в
чем состоят ее условия. Мы где-то читали недоумение относительно того, почему в
«Детстве» и «Отрочестве» нет на первом плане какой-нибудь прекрасной девушки
лет восемнадцати или двадцати, которая бы страстно влюблялась в какого-нибудь
также прекрасного юношу... Удивительные понятия о художественности! Да ведь автор хотел изобразить детский и отроческий возраст, а не
картину пылкой страсти, и разве вы не чувствуете, что если бы он ввел в свой
рассказ эти фигуры и этот патетизм, дети, на которых
он хотел обратить ваше внимание, были бы заслонены, их милые чувства перестали
бы занимать вас, когда в рассказе явилась бы страстная любовь,— словом, разве
вы не чувствуете, что единство рассказа было бы разрушено, что идея
автора погибла бы, что условия художественности были бы оскорблены? Именно для
того, чтобы соблюсти эти условия, автор не мог выводить в своих рассказах о
детской жизни ничего такого, что заставило бы нас забыть о детях, отвернуться
от них. Далее, там же мы нашли нечто вроде намека, на то, что граф Толстой
ошибся, не выставив картин общественной жизни в «Детстве» и «Отрочестве»; да мало ли и другого чего он не выставил в этих повестях? в них нет
ни военных сцен, ни картин итальянской природы, ни исторических воспоминаний,
нет вообще много такого, что можно было бы, но неуместно и не должно было бы
рассказывать: ведь автор хочет перенесть нас в жизнь
ребенка,— а разве ребенок понимает общественные вопросы, разве он имеет понятие
о жизни общества? Ведь этот элемент столь же чужд детской жизни, как
лагерная жизнь, и условия художественности были бы точно так же нарушены, если
бы в «Детстве» была изображена общественная жизнь, как и тогда, если б
изображена была в этой повести военная или историческая жизнь. Мы любим не
меньше кого другого, чтобы в повестях изображалась общественная жизнь; но ведь
надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение
общественных вопросов в произведение; не должно забывать, что первый закон
художественности — единство произведения, и что потому, изображая «Детство»,
надобно изображать именно детство, а не что-либо другое, не общественные
вопросы, не военные сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану и не
Рудина, а дитя с его чувствами и понятиями. И люди, предъявляющие столь узкие
требования, говорят о свободе творчества! Удивительно, как не
ищут они в «Илиаде» — Макбета, в Вальтере Скотте — Диккенса, в Пушкине —
Гоголя! Надобно понять, что поэтическая идея нарушается, когда в
произведение вносятся элементы, ей чуждые, и что если бы, например, Пушкин в
«Каменном госте» вздумал изображать русских помещиков или выражать свое
сочувствие к Петру Великому, «Каменный гость» вышел бы произведением нелепым в
художественном отношении. Всему свое место: картинам южной
любви — в «Каменном госте», картинам русской жизни — в «Онегине», Петру
Великому — в «Медном всаднике». Так и в «Детстве» или
«Отрочестве» уместны только те элементы, которые свойственны тому возрасту,— а
патриотизму, геройству, военной жизни будет свое место в «Военных рассказах»,
страшной нравственной драме — в «Записках маркера», изображению женщины — в
«Двух гусарах»...
...Граф Толстой обладает
истинным талантом. Это значит, что его произведения
художественны, то есть в каждом из них очень полно осуществляется именно та
идея, которую он хотел осуществить в этом произведении. Никогда не
говорит он ничего лишнего, потому что это было бы противно условиям
художественности, никогда не безобразит он свои произведения примесью сцен и
фигур, чуждых идее произведения. Именно в этом и состоит одно из главных
требований художественности. Нужно иметь много вкуса, чтобы оценить красоту
произведений графа Толстого; но зато человек, умеющий понимать истинную
красоту, истинную поэзию, видит в графе Толстом настоящего художника, то есть
поэта с замечательным талантом.
Этот талант принадлежит
человеку молодому, с свежими жизненными силами,
имеющему перед собою еще долгий путь — многое новое встретится ему на этом
пути, много новых чувств будет еще волновать его грудь, многими новыми
вопросами займется его мысль, - какая прекрасная надежда для нашей литературы,
какие богатые новые материалы жизнь дает его поэзии! Мы предсказываем, что все,
данное доныне графом Толстым нашей литературе, только залоги того, что совершит
он впоследствии; но как богаты и прекрасны эти залоги!
Источник: Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. /
Текст печатается по изданию: Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. - М.:
Худ. лит., т. 1. - Художник А. Костин. - М.: Детская
литература, 1989. - 335 с.