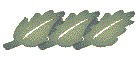|
|
ТРИЛОГИЯ ТРЕВОЖНЫХ ИСКАНИЙ |
|
Статья А.В. Чичерина
I
3 января 1852 года двадцатитрехлетний Лев Толстой,
только что вместе со своим братом Николаем приехавший на Кавказ, был зачислен
фейерверкером в одну из батарей 20-й артиллерийской бригады.
Недавний студент Казанского университета теперь по
своей воле становится солдатом и оказывается на передовой линии огня. Он
постоянно участвует в боевых действиях, то «в движении в ущелье Рошни», то «в движении к аулу Саянт-юрт
и внезапной атаке на неприятеля, который обращен в бегство», то «в удачном деле
в долине Хулхулау...»[1].
18 февраля снаряд противника ударил в колесо той пушки, которую наводил
фейерверкер Лев Толстой,
Но, отправляясь на Кавказ с твердым намерением
освободиться там от развращающего действия окружавшей его среды, от себя самого
и дурных своих привычек, этот молодой человек захватил с собою неловко
вырезанные из конторской книги листы, содержавшие первую редакцию его первой
повести — «Детство».
На этих листах еще не установившийся почерк, не
похожий на позднейший почерк автора «Войны и мира», что-то неуверенное,
неспокойное в этих буквах, написанных без нажима и чернилами, которые теперь
кажутся водянистыми, В работе над «Детством» крепнет почерк и формируется
писатель.
Война на Кавказе, участником которой был Толстой,
велась рывками. Были длительные перерывы, досуга было достаточно не только для
чтения произведений Руссо, Стерна, Платона, Лермонтова, исторических сочинений
Тьера, Д. Юма и Михайловского-Данилевского, «Записок охотника», новых номеров
«Современника», но и для очень упорной работы над второй, третьей и четвертой
редакцией «Детства».
«Труд, труд! Как я чувствую себя счастливым,
когда тружусь»[2],— писал Толстой в своем
дневнике 23 июля 1853 года. Как горячо говорил он, обращаясь, к самому себе,
что сознает «необходимость и желание в третий раз переписать «Детство»[3].
Он не вносил поправки в текст, а предпочитал все переписывать заново, отсеивая
лишнее, уточняя, углубляя, оттачивая. Все передумывая
и неустанно, щепетильно проверяя себя самого.
В работе над «Детством» постепенно образуется общий
замысел целого романа — «Четыре эпохи развития», «основные мысли» которого в
планах и черновиках высказаны так: «...Резко обозначить
характеристические черты каждой эпохи жизни: в детстве теплоту и верность
чувства; в отрочестве скептицизм, сладострастие, самоуверенность, неопытность и
"начало тщеславия" гордость; в юности красота чувств, развитие тщеславия
и неуверенность в самом себе; в молодости — эклектизм в чувствах, место
гордости и тщеславия занимает самолюбие, узнание
своей цены и назначения, многосторонность, откровенность». Здесь же
говорится о намерении «показать дурное влияние тщеславия воспитателей и
столкновения интересов в семействе», «...различие братьев: одного наклонного
к анализу и наблюдательности, другого к наслаждениям жизни», «показать влияние
врожденных наклонностей на развитие характеров»[4].
В плане «Молодости» идейный итог «Четырех эпох
развития» обозначен несколько иначе: «Главная мысль: чувство
любви к богу и к ближним сильно в детстве, в отрочестве чувства эти заглушаются
сладострастием, самонадеянностью и тщеславием, в юности — гордостью и
склонностью к умствованию, в молодости опыт житейский возрождает эти чувства»[5].
Для обеих этих записей крайне характерно искание общих
законов развития человека, а во второй из них тот же строй мысли, как и в
«Возрождении» Пушкина:
Так исчезают заблужденья
С измученной души
моей.
И возникают в ней виденья
Первоначальных
чистых дней.
Стремление Толстого к выяснению объективных
закономерностей, а не к мемуарам подтверждается и тем, как он был возмущен,
когда в «Современнике» его первое произведение было названо не «Детство», а
«История моего детства». В письме к редактору «Современника» Некрасову,
который первым признал талант молодого писателя, Толстой настаивал на том, что
новое название «противоречит мысли сочинения». «Кому
какое дело до истории моего детства?». Итак, «Четыре эпохи развития» — не
личные воспоминания, а поэтическое смешение собственных переживаний и
наблюдений за многими другими людьми ради создания типических образов и, еще
больше, для понимания социально-психологических законов, которые определяют
развитие и формирование человека.
Толстой был огорчен и тем, что редакция назвала его
«Детство» не романом, а повестью, так как видел в нем первую часть большого
романа.
Однако в постепенно создававшемся романе его четвертая
часть так и осталась ненаписанной. С нею, с «Молодостью», связаны замысел
«Романа русского помещика» и превосходный законченный рассказ «Утро помещика».
Все же «Четыре эпохи развития» остались трилогией.
Сопоставление вариантов с окончательным текстом
показывает, как шла работа над первым произведением Толстого, над «Детством»,
Какая разница между первой и окончательной, четвертой,
редакцией! В первой редакции многое еще очень примитивно, например, в
портрете матери нагромождаются такие внешние признаки: «Зубы неправильные,
редкие, но белые... Уши средние, руки и ноги длинные и сухие... средний женский
рост, маленький пушок на верхней губе...» В таком забитом подробностями
описании делается попытка связать внешнее и
внутреннее, установить общие законы: «Губы довольно толстые и влажные носили
отпечаток главной черты характера ее — восприимчивости — они беспрестанно переменяли
выражение...» — и это описание тут же переходит в рассуждение о том,
действительно ли «порода узнается по оконечностям»,
появляются наивные сентенции в таком роде: «Высокая грудь — человек добрый и
энтузиаст. Впалая и выдавшиеся спинные позвонки —
человек, склонный к жестокости и скрытный. Впалый живот и выдавшиеся лопатки —
человек, не понимающий вещей, и наоборот...»[6].
Во время работы над «Детством» коренным образом
меняется понимание художником человеческой природы, господствующим становится
утверждение многообразной и внутренне подвижной природы человека, умение
обнаружить прямо противоположные свойства в одном и том же человеке. Это прежде всего сказывается в том, как главный герой
трилогии, очень умный мальчик, подросток и юноша постоянно страдает «сознанием
своей глупости».
Все же первоначальный взгляд на неподвижные и
безусловные соотношения у человека его физического облика и его душевных
свойств в окончательном тексте трилогии проявляется иногда, например, в
утверждении, что всем очень красивым лицам свойственно холодное и однообразное
выражение глаз и улыбки.
В первоначальных редакциях рассуждения нередко даются оголённо, совершенно вне той сферы переживаний ребенка и
подростка, которые составляют поэтическую атмосферу «Детства» и «Отрочества».
Так, во второй редакции появляются пространные, интересные размышления
взрослого человека о музыке, по поводу игры матери на рояле. В
них вклинивается и своего рада статистика («Из 10 человек, у которых вы
спросите: «Какую музыку вы любите?», 9 непременно вам
ответят, что они любят серьезную музыку...»)[7].
В окончательной редакции переживание музыки дается в
чутком восприятии ребенка. Не теория музыки, а сама музыка проникала на
страницы повести.
В работе над усовершенствованием текста большое место
занимало искание, развитие верных поэтических мелодий, устранение диссонансов.
Иногда беспощадно отвергаются сцены, сами по себе сильные, но противоречащие
нравственной взыскательности и чистоте чувства. Например, для характеристики
отца очень значителен был эпизод в кондитерской, когда на глазах у детей отец
стал развязно ухаживать за продавщицей. Страшной силой была наделена и та
сцена, когда у постели умирающей матери Николенька наблюдает, как отец,
«который был убит горем в эту минуту», одновременно смотрит на лицо умершей
жены и любуется обнаженными руками молодой женщины Но Толстой устраняет разные сцены
такого рода,
В работе над «Детством» устанавливается общий
характер, всего сочинения, это выражается и в стремлении все больше и больше
смешивать свое личное с наблюдениями жизни других семей, с более и более
широкими обобщениями, В последующих редакциях устраняется и первоначальное
намерение изобразить неблагополучное семейство, незаконнорожденных детей. В
ранних редакциях, в теме «неблагообразия нашего»
молодой Толстой подходит к той сфере, которая станет достоянием Достоевского,
но отходит от нее — в свою сферу не надрывных, а эпически размеренных образов и
понятий,
Не исключительное, а обычное, закономерное, ровное и
быстрое течение жизни, ясная глубина человеческих характеров составляет
основное содержание повести молодого Толстого. Но все же следует отметить и
соприкосновения Толстого и Достоевского в понимании человеческой природы и
психологии.
Уже первой частью трилогии, «Детством», Лев Толстой
входит в русскую и мировую литературу как писатель громадной силы и глубины. В
этом произведении сказано им его новое слово: лаконическому стилю пушкинских
повестей противопоставлен могущественный анализ душевной жизни в ее
противоречиях, в ее развитии; острой гоголевской сатире — всестороннее
раскрытие человеческой личности; литературному и философскому идеалу
романтиков — чрезвычайная трезвость в изучении личности и социальной среды.
В понимании законов душевной жизни, в постановке самых
важных нравственных проблем Толстой, с первого своего шага, пошел дальше
Писемского и Тургенева. Новое слово сказывается в небывало строгом его
критицизме: барский быт, образы отца, бабушки, всего московского общества уже
в «Детстве» и во всей трилогии представлены в высшей степени правдиво. Не
крайнее уродство Плюшкиных и Собакевичей привлекает внимание Толстого, а нечто
иное: он видит, как отрава крепостнической идеологии
проникает в характеры незлых и неглупых людей, составляет постоянный изъян в
сознании самого Николеньки.
Образы трилогии Толстого имеют своих хорошо известных
прототипов. Отец Николеньки —Иртеньев — столь верный
портрет А. М. Исленьева, что он сам узнал себя и
отнесся к своему изображению весьма благодушно. Не менее близки к своим
прототипам Наталья Савишна и другие слуги, Карл
Иванович, Вололя, Любочка,
Катя, И все-таки перед нами каждый раз — не индивидуальный портрет, а выросший из
многих наблюдений и размышлений — типический образ.
Немало недоумений вызывал образ матери, maman, как ее обычно называет Николенька, С. А. Толстая
думала, что это образ вымышленный. Известный в начале нашего века историк
литературы Д.Н. Овсянико-Куликовский считал его
беспочвенным и поэтому бледным[8].
Между тем один только слог предсмертного письма матери
- исчерпывающе полная и конкретнейшая ее характеристика. Такая в этом письме
ясность чувства, такая полная самоотверженность, которая сказывается во всем
строе внутренней жизни; постоянная обращенность только к подлинно ценному: «Меня так же мало радует твой выигрыш, как
огорчает проигрыш; меня огорчает только твоя несчастная страсть к игре, которая
отнимает у меня часть твоей нежной привязанности и заставляет говорить тебе
такие горькие истины...».
Не взрывы чувства, не сила отдельного самоотверженного
поступка, а постоянный душевный подвиг преданности и страдания — характерны
для этого эпически раскрытого образа, ведущего в сокровенные глубины
внутренней жизни истинно прекрасного человека.
Образ матери, данный гораздо более нежными и легкими
чертами, чем другие образы, только проигрывал бы от красок более определенных
и резких. К тому же его конкретность восполняется и тем, как ясно отражается
этот образ в живом чувстве Николеньки, Натальи Савишны,
бабушки, в настойчивом и тонком противопоставлении матери и отца; автор
постоянно показывает светлую глубину ее натуры.
Лев Толстой не мог помнить своей матери, она умерла,
когда ему не было еще и двух лет. Даже портрет ее сохранился только один и
притом силуэт времен ее детства. Но воспоминания и родных и слуг о
любвеобильной, сдержанной, расположенной к музыке и книгам обаятельной женщине,
эти воспоминания были живы. Они соединялись с образом любимой тетушки Татьяны
Александровны Ергольской. Как Тропинин,
создавая портрет своей матери, как Кипренский, создавая портрет Растопчиной, как Пушкин и Тургенев в их женских образах,
так и молодой Толстой черпал из глубины жизни, добывая оттуда самое прекрасное,
что было в нравственном облике русской женщины того времени.
Но в его трилогии, остро критической по всему своему
строю, этот образ занимает особенное место, он явно противопоставлен
изображению всего дворянского общества, в нем утверждение мысли о том, как мог
бы человек быть истинно и полно прекрасным.
По своему значению к нему примыкают и образы слуг. В
стычке между Этьеном и его лакеем проявляется
развязная бессовестность барчонка и гордость, чувство
своего достоинства слуг. Пожилая горничная Паша теряет терпение и бунтует
против капризной своей барыни и все же горячо любит ее и горюет после ее
смерти. Николай трогательно ободряет Николеньку тогда, когда он, кажется, всеми
забыт и брошен. В отношениях слуг Николенька постоянно наблюдает простоту и
человечность, которые становятся для него идеалом поведения.
Горе детей, теряющих свою мать, которое притворно
разделяют съехавшиеся соседи, искренне и полно, безмолвно и просто разделяют
крепостные служанки и слуги. И чудесный образ Натальи Савишны,
человека, наделенного даром беззаветной преданности и любви, проясняется до
конца именно тогда, когда описывается общее горе. В ней не было никакой рисовки,
была не только сила, но и совершенная чистота чувства. И этим она отличалась от
отца, от Мими, от Володи и самого Николеньки, который
поминутно ловил себя на проявлении неискренней, неестественной печали.
Толстой впоследствии говорил о первых русских революционерах-декабристах:
«Они, как и мы, через нянь, кучеров, охотников полюбили народ»[9]. В
«Детстве» и «Отрочестве» неустанное, почти неистовое искание совершенной
правдивости и чувства, и мысли, и слова идет от уроков Натальи Савишны и других крепостных подневольных людей. В «Юности»
оно получает новое выражение в столь же упорном искании истинной дружбы,
истинной любви, в саморазоблачении в духе столь любимой в то время Толстым
«Исповеди» Жан-Жака Руссо.
II
Устраняя рассуждения, насыщая текст выразительными
деталями, Толстой в особенности шлифует и доводит до совершенства бьющуюся в
них аналитическую мысль. В этом отношении уже «Детство» — произведение дотоле
небывалое и в русской и в мировой литературе.
Это движение мысли, а вместе с ней столь же деятельное
движение нравственного чувства приводит к рассмотрению любого происшествия и
любого лица с разных, часто противоположных позиции.
Сережа, Володя, да и сам Николенька, «помирали со
смеху», издеваясь над своим товарищем-бедняком, Иленькой
Грапом, это казалось им молодечеством. «Несчастная
жертва» с его возгласом: «Пустите меня, я сам! Курточку разорвете!» —
напоминает гоголевского Акакия Акакиевича. Вначале все это только
раззадоривало веселящихся ребятишек, и лишь потом возникло сомнение, действительно
ли «все это очень смешно и весело». Возглас: «За что вы меня тираните?» поразил
Николеньку, и вся сцена приобрела значение обратное тому, какою она сначала
казалась.
Раздосадованный неловкостью Карла Ивановича,
Николенька спросонья думает о нем «...противный человек! И халат, и шапочка, и
кисточка — какие противные!» Но уже в этих злых мыслях, таких детских,
скрывается что-то противоречащее прямому их смыслу, А чуть-чуть дальше этот
прямой смысл совсем отвергнут: «Теперь, напротив, все это»,
т. е. халат, шапочка и кисточка, «казалось мне чрезвычайно милым...»
Странник Гриша, сперва увиденный жалким и тупоумным,
потом оказывается «спокойным, задумчивым и даже величавым». Светлое чувство к
Наталье Савишне проходит сквозь
своего рода кризис, когда Николенька думает о ней
по-барски, заносчиво и дерзко. Сент-Жером, холодно и
грубо обращавшийся с ребенком, возбудивший в нем взрыв ненависти и жажду мести,
через некоторое время вызывает, хотя и не особенно горячее, все же
противоположное к себе отношение. Нехлюдов сначала не понравился Николеньке, а
потом стал его лучшим другом. И сам Николенька в неустанном разладе с самим
собой.
Не раз говорилось о влиянии иностранных писателей на
«Детство». Совершенно верно, что Толстой под влиянием Тепфера
вводил в свою книгу некоторые ситуации из детской жизни[10],
под влиянием Стерна задерживал внимание на тщательном анализе чувств, может
быть, не без влияния Диккенса обратился к нравственным проблемам детского и
отроческого возраста. Но все-таки в своем понимании человеческого характера он
шел совершенно своею дорогой. Ведь ни у Тепфера, ни у
Стерна, ни у Диккенса нет такого раскрытия в каждом чувстве, в поступке, в
человеческой личности исконной двойственности, внутреннего активного противоборства.
Своеобразие «воспитательного романа» Толстого в том, что это роман непрерывной
борьбы и исканий.
Резко противопоставленные характеры матери и отца,
Николеньки и Володи, Карла Ивановича и Сент-Жерома,
Нехлюдова и Дубкова противопоставлены, однако, диалектически, не как белое и
черное, не как доброе и злое. Внутри каждой из этих пар есть и сходство.
Высокое чувство нерассуждающей любви совершенно
растворяет личность матери и порабощает ее воле отца, в этом смысле сближает ее
с отцом. И в отце, непостоянном, ветреном и безнравственном — нет-нет да
заблистают искры живого чувства, отражающего в себе ее чувство.
Горячему, трепетному Николеньке противопоставлен
холодный, уравновешенный Володя, однако и Володе свойственны
и братская солидарность, и душевное благородство. А Николенька нередко старается
казаться чем-то себе самому совершенно противоположным. В отношениях братьев
проявляются и отчужденность, и взаимное тяготение.
В заключительных главах «Юности» нравственная ценность
идеальных, в глазах Николеньки, приличных людей, comme
il faut, в конечном счете отвергается, а те, кто появляется на улице без перчаток,
оказываются во многих отношениях людьми более высокого духовного уровня, более
ценными.
В «Отрочестве»
есть глава, которая
содержит философские размышления подростка. И ребенка, и
взрослого, пишущего записки, и автора не удовлетворяют гладкие мысли, без сучка
и задоринки. Напротив,
«несообразность», противоречия
— «вернейший признак истины». Мыслящий
подросток, еще не читавший ни одной философской книги, движется «по тому же
пути», по которому развивается философская теоретическая мысль всего
человечества.
На Николеньку сильнейшее впечатление производят
скептики и субъективные идеалисты, он вживается в самые фантастические теории и
доходит «до такой степени сумасбродства», что иногда быстро оглядывается,
«надеясь врасплох застать» за спиною своей — пустоту.
Из всего близкого к жизни самого автора эти страницы —
наиболее близкие. «Я смолоду занимался философией...»,— писал впоследствии Лев
Толстой. «Когда я начал жить, гегельянство было основой всего: оно носилось в
воздухе, выражалось в газетных и журнальных статьях, в исторических и
юридических лекциях, в повестях, в трактатах, в искусстве, в проповедях, в
разговорах...»[11] Это было время Николая
Станкевича и Михаила Бакунина, Белинского и Герцена, блестяще описанное самим
Герценом в книге «О развитии революционных идей в России» и в XXV главе книги
«Былое и думы».
Л. Н. Толстой в то время не занимался специально
Кантом, Шеллингом или Гегелем; некоторым его друзьям казалось, что он в этом
отношении вовсе не сведущ. Но он по-своему, жизненно и душевно, совершенно
реально воспринял то, что «носилось в воздухе», чрезвычайно плодотворно
претворил философские идеи того времени в своем понимании человека, в своем
художественном методе.
Умственная атмосфера сороковых и пятидесятых годов,
жгучие философские интересы, которые тревожили молодого Толстого, все это
определило основную струю трилогии — искание правды, искание верного решения в
понимании личности и общества, исследование подвижной сложной природы человека,
то, что Н. Г. Чернышевский в своей статье 1856 года назвал диалектикою души.
Статья Чернышевского о «Детстве и отрочестве», о
«Военных рассказах» Толстого замечательна тем, что в ней раскрывается своеобразие
реалистического метода молодого писателя. Внимание
автора «более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из
других», «как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям,
увлекается дальше и дальше», на «уловление драматических переходов одного
чувства в другое...»[12].
Обычно мы видим начало и итог психического процесса, его обобщение в образе,
Толстого же привлекает сам психический процесс в возможной его полноте.
Все это очень содержательно и верно, все же понятие «диалектики
души» заключает в себе именно то, что содержится в словах Чернышевского о
«драматических переходах одного чувства в другое, одной мысли в другую».
Действительно, дело ведь не только в том, что показано
развитие чувства и мысли, но и в том, что это развитие — в преодолении
противоречий, и в конечном счете оно имеет тенденцию
восходить к основным формулам философской диалектики. Такой ход мысли
определяет не только диалектику образов, но и строение речи. Рядом оказываются
противоположные по своему значению эпитеты, обозначения предметов и действий:
«Мне было отрадно переменить изношенное чувство привычной преданности на свежее
чувство любви... в одно и то же время разлюбить и полюбить — значит полюбить
вдвое сильнее, чем прежде». Изношенное — свежее, преданности— любви, разлюбить — полюбить. Тезисы и антитезисы приводят к
очень отчетливо высказанной синтезирующей мысли. Иногда эпитет парализует
прямое значение последующего слова и порождает новое, иное значение: «Про мать он говорил с некоторой холодной и торжественной
похвалой...» или «...красивой, однообразной улыбкой», одна и та же женщина в
то же время — «молодая», «здоровая», «пышно одетая», «веселая» и —
«немолодая», «изнуренная», «тоскующая», «неряшливая», «скучающая».
Некоторые сцены приобретают драматическую остроту и силу из-за того, что
параллельно происходят действия, контрастирующие друг другу. В то время когда
Николенька трепетал от сознания «величайшего несчастья» и с ужасом видел, как
«...появилась красиво начертанная единица и точка», учитель «бережно обмакнул
перо... бережно сложил тетрадь баллов...».
Тема «величайшего несчастья» сама оказывается в
двойном свете: с чрезвычайной силой показано, что все происходящее с
Николенькой в день праздника в доме бабушки действительно большая беда, и в то
же время в каждом слове—весьма приметная ирония: ведь только в глазах ребенка
это большая беда. В главах «Затмение» и «Мечты» высокий трагизм изображаемых чувств сближает Толстого и Достоевского, автора не только «Неточки Незвановой» (1849),
«Маленького героя» (1849), но и позднейших романов.
Трагизм Достоевского выражается в крайних состояниях
отчаяния или восторга; такова душевная жизнь и Неточки,
и «маленького героя», и Раскольникова, и Мити Карамазова.
В главе «Затмение» крайнее состояние детского отчаяния
обобщается так: «Вспоминая свое отрочество и особенно то состояние духа, в
котором я находился в этот несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю
возможность самого ужасного преступления, без цели, без желания вредить,— но
так — из любопытства...».
Нежный ребенок оказывается способным на «самое ужасное
преступление» — совмещается несовместимое. Но каждый человек,— это одно из
открытий молодого Толстого,— вмещает в себе все человеческое, все возможности
человека, добрые и дурные. Воспитание, среда, его собственная воля развивают
одно и вытесняют, а часто и выкорчевывают другое. В сложном противоборстве
растет и крепнет характер, и его противоборство никогда не утихнет.
В этом отношении Толстой расходился с Руссо. Хотя детство
и представлялось ему светлой и поэтической порою жизни, все же и злые чувства,
и проявления барства, и грубая чувственность, и лень, и позерство, и ложь — все
это сказывается и в детские и в отроческие годы. «Чистота
нравственного чувства», о которой так горячо говорил Чернышевский, не в
совершенной невинности главного героя, а в ясном обозначении и самосознании его
пороков, в той нравственной борьбе, которая в нем начинается, в силе сопротивления,
которая растет и крепнет, в «диалектике его души».
III
Нравственный самоконтроль — основа внутренней жизни
Толстого тех лет, когда создавалась его трилогия. Это лейтмотив его дневника
за 1852 год: «Играл в шашки, ужинал, ложусь спать». «Меня мучит мелочность моей- жизни... я сам мелочен; а все-таки имею силу презирать и
себя и, свою жизнь»[13].
«Я трусил сначала...— стыдно...— Энергия ослабевает, страсть увеличивается. У
меня нет постоянной энергии...— Отчего возбуждается и падает энергия?»[14]
«...разболтался со всеми и без всякой причины солгал, будто я из правоведов.
Это обстоятельство так расстроило, что я без всякой цели, как угорелый, пошел
ходить по бульвару»[15].
«...Заметил при этом случае за собой еще много тщеславия»[16].
Даже вполне естественное желание поделиться только что написанными страницами
первого задушевного произведения взято под строгий контроль: «У меня становится
дурная привычка навязываться с чтением своей повести»[17].
Постоянная нравственная самопроверка из личной жизни
автора переходит в его творческую жизнь. В том и в другом сосредоточена характерная
для того времени обостренность нравственного чувства, которое сказывалось так
явно в среде Станкевича и Грановского, еще более значительно было в среде
Белинского, Герцена и Огарева, Некрасова и Чернышевского.
Николеньку мучает множество вопросов: как он мог, хотя
бы мысленно, обидеть Карла Иваныча, разъяриться на
милую Наталью Савишну, употребить в поздравительном
стишке льстивое и лживое слово, участвовать в издевательствах над Иленькой Грапом, неполно, с
примесями тщеславия, переживать смерть любимой матери. Как это так, они, Иртеньевы — богаты, а у Катеньки и Мими
ничего нет. Впоследствии его будет мучить, что его «философские открытия»
чрезвычайно льстят его самолюбию, будет тревожить Нравственная неразбериха
отроческих лет. И «Юность» — сплошная исповедь с признанием в фанаберии, в
превратности и дикости своих понятий, в порывах грубой чувственности, в
постоянной, но тотчас мучительно осознанной лжи. Эстетические суждения
приобретают этический смысл: как отличить пустую фразу от истинно выраженного
чувства?
В дневнике возникают правила поведения на всю жизнь, и
Николенька пишет правила, но суть оказывается не в постоянных пунктах этих
правил, а в движении к невидимой цели нравственной чистоты и совершенства. В
эпитетах трилогии довольно часто сказывается эта тенденция. Среди многих
двойных эпитетов, обозначающих совмещение разных свойств или переход одного
качества в другое, характерны и такие, как: «откровенно-добрый», «спокойно-радостный»,
«равнодушно-презрительно», «притворно-рассеянно»,
«благородно-самодовольные порывы».
Николенька изображен неустанно следящим сам за собой.
Он нет-нет да поглядывает в зеркало, которое то радует, то удручает, то
рассеивает, то сосредоточивает его. Но зеркало, в котором он видит свое лицо,—
только частный случай того нравственного зеркала, в которое заглядывает он
пытливо и тревожно.
В строго-нравственном свете предстают, перед
Николенькой и все люди, через которых он познает окружающий его мир,— и отец, и
Володя, и князь Иван Иваныч, и все светское общество.
Столь отличный от Диккенса в своем понимании человеческой личности, Толстой в
этом отношении очень близок Диккенсу. Но Диккенс отчетливо ставит свой плюс или
минус, в целом характеризующие его персонаж, а плюсы и минусы у Толстого
оценивают преимущественно душевные состояния и поступки; в одном и том же
образе эти знаки чередуются, не смешиваясь, однако, не утрачивая отчетливости.
В образе отца малейшие подробности, иногда намеки
разоблачают нравственную его бесшабашность: «бренчал на фортепьянах
свои любимые штучки...» Одним словом «штучки» выражено то душевное состояние Иртеньева-старшего, которое отвергает его сын. Совсем иначе
выглядит отец, когда он, робеющий, с виноватым видом, с дрожащей рукою, со
слезами на глазах, сообщает сыновьям о своей предстоящей женитьбе. Во всяком
случае, нравственный итоговый смысл этого образа в том, что не у отца нужно
учиться Николеньке, не за ним следовать. Поэтому искание человека, которому
следует подражать, с которым хочется дружить, приобретает в его жизни особенное
значение.
Николенька восхищался Сережей, но его расположения не
добился и вскоре увидел, что этот его кумир немногого стоит.
Тема дружбы становится лейтмотивом конца второй и всей
третьей части трилогии. Искренняя дружба — необходимое следствие н строгих нравственных запросов, и
высоких умственных взлетов, «когда, возносясь все выше и выше в области мысли,
вдруг постигаешь всю необъятность ее...». Основа дружбы — совершенная уверенность
друг в друге и в верности, прочности самого чувства.
Начало юности видит Толстой в открытии той истины, что
есть на свете такой «чудесный» человек, за которым можно и нужно следовать,
жалея лишь о том, что столько времени зря утрачено в прошлом.
Чернышевский, который был так восхищен «Детством»,
«Отрочеством» и кавказскими рассказами, не был удовлетворен «Юностью»,
вероятно, потому, что беседы Николеньки и Дмитрия Нехлюдова и душевные
стремления обоих друзей остаются в сфере такого рода этических мечтаний,
которые еще никуда не ведут. И последняя часть трилогии оказывается
недосказанной.
Нельзя не признать, что столь значительный для
Толстого образ, как образ князя Дмитрия Нехлюдова, героя тогда же написанного
«Утра помещика», а через сорок три года вновь появившегося в романе
«Воскресение», не наделен в «Юности» такой громадной жизненной силой, как
главные персонажи первой части трилогии. Этот «энтузиаст», резко
противопоставленный Володе и Дубкову, «в высшей степени часто, несмотря на
насмешки, пускался в рассуждения о философских вопросах и о чувствах». И в среде
своих сверстников, и в своей семье молодой Нехлюдов упорно противопоставляет
свои взгляды, свою правду мнениям и вкусам дворянской среды. Он оказывает
большое влияние на Николеньку, приучая его думать серьезно и по-своему,
укрепляя в нем то чувство сознательной нравственной ответственности, которое
до возникновения этой дружбы проявлялось стихийно, а временами и глохло.
И все-таки высокий замысел в этом образе оказывается
незавершенным. Если сопоставить Нехлюдова, героя «Юности», с замечательными людьми
того времени, то он оказывается чем-то вроде бледной тени Николая Станкевича,
сфера Белинского и Герцена совершенно вне его кругозора.
Не только Николеньке, но и Нехлюдову противопоставлены
бедняки разночинцы, однокурсники Иртеньева. Это
совершенно новый, незнакомый ему мир, к которому с любопытством и недоверчиво
присматривается студент-белоручка. Он считал их невежественными, и вдруг
оказывается, что они читали больше и ухватистее, чем он. У Зухина
такой острый ум, такие знания, что рядом с ним Николенька выглядит неучем. К
тому же в этой среде нет ни малейшего почтения к аристократу, никто не
проявляет желания собираться в его просторных
и хорошо обставленных
комнатах. Демократизм и бунтарство сказываются во всем.
И все-таки несомненно, что Толстому эти люди мало
знакомы и чужды. Впервые в романе появляется что-то ненатуральное, несколько
нарочитое в изображении манер Зухина, похождений
Семенова,
Однако в «Юности» есть удивительная художественная
цельность и необыкновенное богатство поэтической мысли. И обстановка и
природа, среди которой живет молодой Иртеньев,
представлены с точки зрения его нравственного идеала. Барская роскошь дается в
таком же тоне сатирического обличения, как это будет сделано впоследствии в
«Воскресении»: «...ковры, картины, гардины... ружья, пистолеты, кисеты и
какие-то картонные звериные головы». Рифмовка (картины-гардины,
пистолеты-кисеты) акцентирует монотонную пестроту и никчемность всего, чем
щеголяет в своих апартаментах приятель Володи — Дубков. Последняя
деталь и эпитет картонные — превосходное по сдержанной силе завершение цельной
и обличительной картины. Дубков полнее показан
в своем жилище, чем в своем поведении или образе мыслей. Что «он очень часто
лгал», это видно по сочетанию внешнего богатства и духовного убожества его
комнат. Также и в доме Ивиных Николенька чувствует
себя «ужасно маленьким» посреди блистательно убранных зал: «что-то было там
мраморное, и золотое, и обвернутое кисеей, и зеркальное». Формы среднего рода
усиливают впечатление безличной, холодной, пустой роскоши, в которой ничто не
может согреть и порадовать. Обстановка в комнате Зухина
тоже претит Иртеньеву, но это — чувство «комильфотной
ненависти», которое он тотчас сам же и осуждает.
В родном его деревенском помещичьем доме Николенька прежде всего, после долгого отсутствия, замечает
задвижку, косую половицу, ларь, старый подсвечник. Это простые вещи,
которые бывают и в крестьянской избе; все здесь так «было знакомо, так полно
воспоминаний, так дружно между собой...». Безличные формы среднего рода в этом
случае, обезличивая каждую деталь, сливают их между собой, показывая, что дом,
который «радостно принимал» Николеньку «в свои объятья»,— это цельное и
любовное содружество и половиц, и ступенек, и стен, оклеенных белой бумагой.
Все в старом доме напоминает о матери, во всем сквозит ее образ, во всем ее
безукоризненная простота и нравственное благородство. Так, некоторые главы
«Юности» возвращают читателя к «Детству», к нежному лиризму последних глав
первой части.
В изображении природы тоже сказывается идейное и музыкальное
единство трилогии. Во всех частях трилогии природа не только в высшей степени
близко подходит к человеку, но и совершенно сливается с ним: во время охоты
Николенька поглощен близостью «серой, сухой земли», муравьев, которые «кишмя
кишели» «между сухими дубовыми листьями, желудями... желто-зеленым мхом...».
«Он забывает обо всем на свете и упускает зайца. Чем обыкновеннее, чем проще
уголок природы, к которому прильнул человек, тем крепче между ними устанавливаются
связи. И в самой природе особенно вызывает восхищение взаимопроникновение и
связь всего со всем, что «между сухими дубовыми листьями...». Так же и в конце
XXXII главы «Юности»: «...как будто природа, и луна, и я, мы были одно и то
же».
Близость к природе не означает, однако, ухода от
людей. Природа прежде всего пробуждает не
исключительные, а общие у Николеньки, у кучера Филиппа и у всего живого
чувства. Это особенно проявляется в демократизации лексики этих частей
трилогии. В знаменитой сцене грозы отнюдь не романтическая, а, напротив,
прозаическая лексика: «шибко катится», «стучит по дощатому мосту»,
«захлестывает петлю и выравнивает постромки, толкая пристяжную ладонью и
кнутовищем». Поэтическое ощущение надвигающейся грозы выражено так: «...лошади
настораживают уши, раздувают ноздри, как будто принюхиваясь к свежему
воздуху...». Крайняя конкретность картины усиливается тем, что к зрительным и
слуховым образам все время примешиваются запахи и что это смеси разного рода
запахов («запах леса», «запах березы, фиалки, прелого листа, сморчков,
черемухи»). Чем проще, чем обыденнее природа, чем ближе она человеку, тем более
она в него проникает. Это тоже своего рода дружба: «Заберешься, бывало, в
яблочный сад, в самую середину высокой, заросшей, густой малины...
бледно-зеленая колючая зелень... Темно-зеленая крапива... разлапистый репейник...»
И тут же еще характерно толстовское: «...перемешанных с
сорною заростью» — не только человек смешивается с
природой, но и в самой природе все перемешано. И слово зарость, не вошедшее в словари Даля и Преображенского,
конечно, услышано Толстым в крестьянском говоре его времени (зарасти — зарость, заросль). Именно природа постоянно порождает у
героя трилогии самые высокие чувства и философские взлеты его мысли. «Пахучий
сырой воздух и радостное солнце говорили мне внятно, ясно о чем-то новом и
прекрасном...— Надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим человеком и
начать жить иначе».
Так звучит в образах природы основная тема трилогии.
IV
И «Детство», и «Отрочество», и «Юность» были обращены
в прошлое. Во время работы Толстого уже окружала действительность, которая
составляла противоположность тому, что он изображал. Сложные жизненные
впечатления лучше кристаллизовались, проходя через новую, совершенно иную
среду.
Молодой писатель живет своей жизнью
фейерверкера, потом офицера, а в Петербурге появляются «Детство», потом
«Набег», «Отрочество», «Записки маркера», «Рубка леса», «Севастополь в декабре
месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года», «Метель», «Два
гусара», «Разжалованный», «Утро помещика» и, наконец, в первом номере
«Современника» за 1857 год — «Юность».
В рассказах и очерках углубленное изображение того,
чем живет в это время их автор, а в
трилогии — его жизненный опыт и философское понимание законов роста и
духовного развития человека, самое дорогое и прекрасное, самое горькое и
грустное, что им было накоплено доселе.
Литературное творчество все более и более полно
забирает Толстого, его сильно волнует опубликование первых произведений.
6 сентября 1852 года появилось в печати первое
творение Льва Толстого, но до него номер «Современника» дошел только 31 октября.
Горькое разочарование ожидало начинающего автора. Он ставил непременным
условием «ничего не изменять» в его тексте. Сам все перекраивавший четыре раза,
он отстаивал каждое свое выражение, как глубоко выношенное, и видел в малейшей
чужой поправке разрушение поэтической правды. Кроме перемены названия, о чем
уже было сказано, огорчение и недоумение вызывали
вторжения придирчивой цензуры того времени. Раздражали его и стилистические
изменения, внесенные редакцией.
Уже в первом творении писателя — такое чувство полного
единства содержания и формы, что малейшее нарушение, даже чисто внешнее,
тотчас отражается на живой и многообразной его идее.
Органична композиция трилогии в целом и каждой ее
части.
Крайне существенно, что события
постоянно расцениваются с точки зрения восприятия их народом: настоящее горе,
освещенное изнутри великой любовью, тем, как Наталья Савишна
переживает смерть Николенькиной матери; успокоение в своих бедах находит
ребенок в словах неграмотного слуги Николая («перемелется — мука будет»),
народную правду он постоянно узнает из уст слуг, извозчиков, бедняков
разночинцев (в начале — Карл Иваныч, в конце — Зухин).
Именно с ними совершенно созвучна душа ребенка в самые
светлые минуты, когда открывается ей понимание человека и жизни. В каждой
части трилогии сочетается мысль ребенка, подростка, юноши в том самом виде, как
ее переживает он в том или другом возрасте, с критически зоркою мыслью
взрослого человека, расценивающего прошлое, далекое прошлое[18].
Композиционная оригинальность «Детства» сказывается в
том, что вся эта пора в жизни Николеньки дана чрезвычайно сконцентрированно.
Зримость отдельных сцен, положений, того, что чувствует ребенок в ту или другую
минуту, сочетается с таким обобщением, которое распространяет это мгновенное
чувство на весь период изображаемой жизни. Читая отдельные сцены трилогии, вы
постоянно чувствуете всю полноту изображаемой жизни, вас манит к себе и то, что
в фокус авторского внимания не попало. Обилие чувств, дотоле небывалый в
литературе микроскопический метод анализа сочетаются с чрезвычайной и притом
органической действенностью повествования.
Первый из описанных в «Детстве» дней содержит
множество происшествий и переживаний разного рода (и огорчение Карла Иваныча, и разговор отца с приказчиком, и грусть матери, и
Гриша, и спор о нем, и «что-то вроде первой любви», и многое другое). В один
день собрано накопившееся в жизни Николеньки за много
дней. Второй день — это отъезд из Петровского,
разлука.
Таким же крупным планом дан третий день и вечер в доме
бабушки, тоже переполненный впечатлениями, конкретными и все же обобщающими
целый период жизни. И еще три дня в заключительных главах: болезнь матери, ее
смерть и — «Последние грустные воспоминания» — беседа с Натальей Савишной.
Начало отрочества застает Николеньку снова в пути:
бурное переживание грозы и «новый взгляд» на жизнь, когда вдруг оказывается,
что социальная несправедливость проникает всюду, даже в
семью самих Иртеньевых.
Двадцать семь коротких глав «Отрочества» с прекрасно найденными заголовками
ровными толчками все время ведут читателя и вперед и вглубь. Каждая глава —
своего рода духовный кризис, нелегко преодолеваемый подростком, который
воспринимает все чрезвычайно пылко и сам действует сгоряча. Последние главы
прямо ведут к «Юности», особенно самая последняя — «Начало дружбы».
Вся работа над «Юностью» оставила след в дневнике
Толстого в период от 12 марта 1855 года до 24 сентября 1856 года. Он нередко
упрекает себя в лени, в том, что работа идет медленно. Но ведь с начала ноября
1854 до ноября 1855 года Толстой находился в Севастополе, городе, который
выдерживал натиск трех осаждавших его держав. Толстой был в самой гуще
героической обороны. Невиданные по суровой простоте, его очерки «Севастополь в
декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года» были
созданы в это же время. В них и сила правды, и совершенное сближение с душою рядового
солдата; они стали громадным открытием, чрезвычайно важным для самосознания
русского человека и для развития литературы.
Так Толстой с прежней тщательностью, переходя от одной
редакции к другой и от другой к третьей, восстанавливая чувства и впечатления,
уже отгороженные от него последующими грандиозными событиями, завершает свою
трилогию. Работа над «Юностью» была закончена в спокойной обстановке, в Ясной
Поляне.
На композиции «Юности» особенно сильно сказалось
постоянное тяготение, художника к раскрытию «диалектики души». В ее сорока пяти главах — непрерывное, зигзагообразное движение.
Порывы и падения, «благородно-самодовольные порывы...». Николеньку тогда же, в
юности, удручает мелочность его чувств. Ирония становится большой силой при
изображении «третьей» влюбленности в Сонечку («вторая любовь моя к ней уже
давно прошла») и еще в одну барышню, в которой «ровно ничего не было хорошего».
Постоянная тема — изображение того, как заражают молодого Иртеньева
прилипчивые нравы «света», как он выбивается из-под власти этой заразы.
Поэтому образы Дмитрия Нехлюдова, Зухина,
Оперова, Семенова имеют особенное и композиционное и
идейное значение. Благодаря им
усиливается противодействие юного Николеньки всему косному и фальшивому в его
среде.
«Пропасть есть мыслей для «Юности»,— читаем мы записи
от 10 июля 1855 года и видим, как копятся не только мысли, но множество
подробностей, забирающих в себя жизнь. В повести рядом оказываются душевные
порывы Николеньки и то, как слуга Николай «крылышком сметал песок и сонных мух
в растворенное окно». Обыденное дело, от которого крепко пахнет ранней весной.
В то же время жест слуги, выметающего из комнаты сор, как бы соответствует
потребности Николеньки освободить, очистить свою душу.
В заключительной части трилогии тема истинной дружбы
усиливает ее основную тему — искание нравственно верного жизненного пути.
«Я проваливаюсь». Это название последней главы —
итоговое, философское. Более занятый светской жизнью, чем наукой, даже вовсе не
занятый ею, молодой студент на первом же экзамене не может сказать ни слова и
болезненно переживает свой позор. Автор так же строго подходит к любимому
своему герою (в значительной степени — к себе самому), как и к тому обществу,
которое формирует характер молодого Иртеньева.
Заключительные строки обещают продолжение, рассказ о
«более счастливой» поре.
Однако трилогия завершилась на этом обращении к
будущему, к новым исканиям.
А. В. Чичерин
Источник: Л.Н. Толстой Детство. Отрочество. Юность. /
Вступительная статья А.В. Чичерина. -
Текст печатается по изданию: Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность.
М, «Художественная литература», 1964. - Казань: Татарское книжное издательство,
1976. - 366 с.