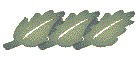 |
МОЛОДОЙ ТОЛСТОЙ |
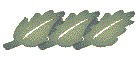 |
Отрывок из книги Е.Н. Купреяновой
Глава 1. Начало литературной деятельности
Часть 1 Общественно-литературной борьба 40-50-х гг. XIX века
Часть 2 Литературные предпочтения молодого Толстого
Часть 3 Общий замысел трилогии "Детство. Отрочество. Юность"
Часть 4 Композиция повести "Детство"
Часть 5 Образ Николеньки в повести "Отрочество"
Часть 6 Юность Николеньки
Часть 7 Основные литературные образы трилогии
Часть 8 Трилогия и "Роман русского помещика"
Часть 9 Л.Н. Толстой на Кавказе. "Утро помещика"
Часть 10 Образы произведений "Роман русского помещика" и "Утро помещика"
Часть 11 "Письма с Кавказа"
Часть 12 Произведения "Роман русского помещика" и "Утро помещика"
Часть
13
(название
частей
Творческая деятельность Льва Николаевича Толстого продолжалась без
малого шестьдесят лет.
За эти годы русская общественно-художественная мысль прошла исключительно
большой и сложный путь социальных, философских и эстетических исканий,
приобрела непреходящее мировое значение, прочно заняла ведущее место в
освободительном и художественном сознании всего человечества. Путь этот был
сложен и противоречив. Как на каждом из своих отдельных этапов, так и взятый в
целом, он отражал задачи, трудности и противоречия демократического развития в
стране, придавленной крепостниками, господство которых было окончательно
свергнуто только Великой Октябрьской социалистической революцией.
Па этом
генеральном пути общественного развития России возникли и сложились все
величайшие явления русской культуры XIX века, начиная от декабристов и Пушкина и кончая Лениным и
Горьким. Своеобразие каждого из этих великих идеологических явлений отражало
историческое своеобразие того этапа развития русской революции, в рамках
которого оно возникло и созрело.
В
хронологическом отношении шестидесятилетняя деятельность Толстого не
укладывается ни в один из основных периодов русского освободительного и собственно
литературного развития XIX века. Толстой родился через три года после восстания и поражения
декабристов и умер через пять лет после революции 1905 года. Толстой был
младшим современником Пушкина, Гоголя, Белинского, сверстником Чернышевского и
находился еще в расцвете своих творческих сил, когда В. И. Ленин в борьбе с
народниками создавал марксистскую рабочую партию, а Горький закладывал основы
литературы социалистического реализма.
В
творчестве Толстого получили дальнейшее развитие и углубление
реалистические традиции и гуманистические устремления антикрепостнической
литературы 30—40-х годов, отразилась вся сложность демократических исканий
эпохи 1861 —1904 годов, и вместе с тем до-конца проявились глубокие
противоречия, изначала присущие русской демократической мысли. Говоря словами
А. М. Горького, Толстой «дал итог пережитого за целый век и дал его с
изумительной правдивостью, силой и красотой»[1].
При всем
этом место и значение Толстого в истории русской литературы критического реализма
до конца еще далеко не прояснено. Очевидно, что как то, так и другое
определяется не хронологическими рамками жизни и деятельности писателя и даже
не тематическим диапазоном его творчества, а прежде
всего теми тенденциями общественного развития, которые отразились в его
произведениях и оказали решающее влияние на формирование и дальнейшую эволюцию
его мировоззрения.
В связи с
этим приобретает первостепенное значение вопрос о социально-исторических
истоках реалистического творчества и кричащих противоречий великого писателя.
Известно, что в середине своего творческого пути Толстой
перешел па позиции патриархального крестьянства, а вот с каких общественных
позиций совершился этот «переход», какими же социально-историческими
устремлениями вдохновлялась до того творческая деятельность писателя, каковы
были субъективные предпосылки и объективное содержание того идейного
«переворота», который Толстой пережил в годы второй революционной ситуации,—
все эти важнейшие вопросы творческой биографии писателя еще далеко не
решены и настоятельно требуют самого пристального изучения.
Одна из
основных трудностей решения этих вопросов состоит в том, что первый, исходный
период литературной деятельности Толстого падает на последние годы
существования крепостного права и тем самым представляется как бы не
соотносимым с характеристикой, данной Лениным Толстому в целом, как художнику
переходной, пореформенной эпохи русской жизни, как идеологу патриархального
крестьянства.
Исходя из
этого предположения и придавая решающее значение аристократическому
происхождению и воспитанию Толстого, многие исследователи относят его раннее
творчество к числу явлений дворянской идеологии и литературы и резко
противопоставляют молодого Толстого, как писателя дворянской ориентации, позднему
Толстому — выразителю крестьянских идей и настроений.
Со всей
отчетливостью и последовательностью эта точка зрения была сформулирована еще в
старых работах о Толстом, выходивших в 20—30-е годы. Все
исследователи тех лет, начиная от В. М. Фриче и кончая
Б. М. Эйхенбаумом, выдавали автора «Детства», «Отрочества» и «Юности», «Утра
помещика», севастопольских рассказов, повести «Казаки» и педагогических статей
за «представителя и продукт родовитой феодальной знати» (В. Фриче), за «дворянского архаиста и анахрониста»
(Б. Эйхенбаум), за выразителя настроений «реакционного», «самого
консервативного дворянства» (К. Чуковский и М. Корнев).
Современная
советская наука решительно отвергла и осудила эту антиисторическую точку зрения
на молодого Толстого, заграждающую путь к пониманию самого главного, к
пониманию непреходящей ид ей но-художественной
ценности ранних произведений писателя, их места и значения в развитии
литературы критического реализма. За последние годы советские исследователи
внесли много нового и ценного в изучение Толстого, в том числе и его
дореформенного творчества. Критическая, антикрепостническая направленность
этого творчества, его устремленность к народу со всей очевидностью и
обоснованностью раскрыта в целом ряде современных исследований и статей. К их
числу принадлежит монографическая работа С. Бычкова «Л. Н. Толстой. Очерк
творчества» (1954), капитальный труд II. Гусева «Материалы к биографии Л. Толстого с 1828 по 1855
год» (1954), статьи Н. Гудзия, А. Шифмапа, С. Леушевой, Р. Заборовой,
опубликованные в книге: «Л.Н. Толстой, Сборник статей и материалов». М., Акад. наук СССР, 1951, а также статьи М. Храпченко
и Б. Бурсова, напечатанные в сборнике «Творчество Л.Н.
Толстого», выпущенном издательством Ак. наук в 1954
г. Однако обобщающих выводов из того нового и ценного, что дано во всех этих и
некоторых других последних работах о Толстом, все еще не сделано, и молодой
Толстой по-прежнему рассматривается большинством современных: исследователей
как, хотя и во многом прогрессивный, новее же дворянский писатель,
идеолог прогрессивного дворянства.
Представление
это страдает крайней абстрактностью и схематичностью. Ведь никакого
прогрессивного дворянства, как определенной классовой прослойки
русского-общества, в 50-е годы не существовало. Дворянско-помещичий класс
выступает в эти и последующие годы в качестве самой реакционной общественной
силы, всячески противодействовавшей прогрессивным демократическим тенденциям
общественного развития. Соответственно не было и не могло быть тогда и никакой
прогрессивной дворянской идеологии, как идеологии классовой, т. е. отражавшей
жизненные интересы, материальные условия существования поместного дворянства,
Такой идеологией была идеология дворянского либерализма, реакционность которой
исчерпывающе доказана Лениным.
Таким
образом, характеристика Толстого как дворянского и в то же время
прогрессивного писателя оказывается лишенной какого бы
то ни было конкретно-исторического содержания и повисает в воздухе. Она
строится отнюдь не на реальном содержании ранних произведений писателя, а на
вульгарно-социологическом представлении о великом художнике, как прямом и
непосредственном выразителе некой, неизвестного содержания дворянской
идеологии, навязанной ему высшей помещичьей знатью, к которой он принадлежал по
рождению и воспитанию. Одним из ярких примеров подобного
вульгарно-социологического истолкования социальной природы творчества Толстого
не только 50-х, по и 60—70-х гг. служит статья И. Успенского «Лев Толстой и русское крестьянство». Здесь прямо сказано, что мировоззрение Толстого «до разрыва
писателя с идеологией той высшей помещичьей знати, к которой он принадлежал по
рождению и воспитанию (т. е. примерно до 1881 г. — Е. К.) было типичным
для мировоззрения лучших, прогрессивных людей из дворян того времени»[2].
Спрашивается: кого конкретно имел в виду автор, говоря о «лучших, прогрессивных
людях из дворян» эпохи 50—70-х гг.? Известно, что такого рода людьми
были Герцен, Некрасов, Салтыков-Щедрин — идеологи отнюдь не помещичьей знати,
а революционной демократии. Показательно, что, отметив
принадлежность Герцена к «поколению дворянских, помещичьих революционеров»,
Ленин наряду с этим подчеркивает, что по своим воззрениям Герцен был
«демократом», представителем мелкобуржуазного «социализма»[3].
Это служит наглядным примером того, что, оставаясь на почве марксистско-ленинской
методологии, нельзя сводить вопрос об общественно-классовом содержании идей к
вопросу о личной, биографической принадлежности их носителей к тому или другому
классу. Предостерегая от подобной ошибки, Ленин приводит «разъяснение»,
данное Марксом «по поводу сведения теорий различных писателей к интересам и
точке зрения различных классов», «...не следует думать,— цитирует Ленин слова
Маркса из работы «18-е брюмера Луи Бонапарта»,— что все представители
демократии — лавочники или поклонники лавочников. По своему образованию и
индивидуальному положению они могут быть далеки от них, как небо от земли. Представителями
мелкого буржуа делает их то обстоятельство, что их мысль не в состоянии
преступить тех границ, которых не преступает жизнь мелких буржуа, и потому
теоретически они приходят к тем же самым задачам и решениям, к которым мелкого
буржуа приводит практически его материальный интерес и его общественное
положение. Таково и вообще отношение между политическими и литературными
представителями класса и тем классом, который они представляют»[4].
Игнорируя
это руководящее положение марксистско-ленинской методологии, И. Успенский,
подобно многим другим современным исследователям, прямолинейно возводит
социальное содержание творчества и воззрений Толстого 50—70-х гг. к его
дворянско-помещичьему происхождению и воспитанию. В такой постановке вопроса
развитие и противоречия раннего творчества Толстого рисуются как развитие и
противоречия одной только личной мысли писателя, отягощенной феодально-аристократическими
представлениями и предрассудками. Самый же основной вопрос, вопрос об
объективной закономерности становления творчества и противоречий писателя,
остается за пределами внимания его исследователей. Так, например, А. Шифман в статье «Чернышевский о Толстом» «объясняет»
противоречивость идейно-творческой позиции Толстого в 50-е гг. исключительно
противоречивостью личного сознания писателя, «жаждущего социальной справедливости»,
с одной стороны, и остающегося во власти дворянско-помещичьей идеологии, с
другой. «Перед нами,— утверждает А. Шифман,—
художник, тянущийся к народу, верящий в его силы, жаждущий от него обновления
жизни, но художник, еще крепкими нитями привязанный к своей (читай помещичьей
- Е.К.) среде и потому глубоко
противоречивый»[5].
Характеристика эта носит не аналитический, а описательный характер. И
единственный вывод из нее тот, что молодой Толстой был «глубоко противоречивым»
художником только потому..., что его мировоззрение было противоречиво.
Исследователь не может выйти за пределы этой очевидной тавтологии, т. к.
обходит вопрос об историческом, объективном содержании противоречий раннего
творчества Толстого и в самом сознании писателя ищет корни его противоречивости.
Дворянской ограниченностью личной мысли Толстого объясняет
исследователь и отчетливое проявление в его дореформенном творчестве «тех
религиозно-моралистических тенденций, которые впоследствии, под влиянием
противоречивых условий русской действительности, разовьются в целое реакционное
учение»[6].
«Протест миллионов крестьян и их отчаяние — вот что слилось в учении
Толстого»,— говорит Ленин[7].
По мнению же А. Шифмана, это учение «развилось» из
дворянско-помещичьих тенденций мировоззрения молодого Толстого, тенденций
классово враждебных крестьянскому сознанию.
Аналогичной
точки зрения придерживается и С. Бычков в своем монографическом «Очерке»
творчества Толстого. Справедливо отмечая, что уже в трилогии
писателя «закладывались основы» его «религиозно-нравственного учения», С.
Бычков считает, что они отразили «кризис господствующих дворянских верхов,
мечущихся в сомнениях и самоанализах, пытающихся укрыться в тихой гавани
«самоусовершенствования»[8].
Обходя опять-таки, вопрос об объективном содержании ранних произведений
Толстого, С. Бычков видит основное противоречие творчества писателя 50—70-х
гг. в «противоречии» «между сословно-дворянской и крестьянско-патриархальной
тенденциями в его мировоззрении»[9].
Подобное
объяснение возникновения и развития кричащих противоречий Толстого, равно как
и все упомянутые выше попытки вывести его мировоззрение из той или другой
разновидности дворянской идеологии, представляют собой не что иное, как
эклектические потуги примирить ленинское истолкование наследия великого писателя
с ошибочной интерпретацией, данной ему Г. В. Плехановым.
Правильно и
своевременно выступив с разоблачением реакционности учения Толстого, Плеханов,
как известно, не понял социально-исторической сущности и обусловленности ни
этого учения, ни творчества писателя в целом. Плеханов считал Толстого от
начала и до конца дворянским писателем, идеологом и бытописателем «старого
барства». В противоположность Ленину, показавшему, что кричащие противоречия
Толстого не являются противоречиями одной только личной мысли писателя, а
отражают противоречия жизни, деятельности и сознания пореформенного
крестьянства, Плеханов не увидел в силе и слабости Толстого ничего, кроме
противоречий его личной мысли, якобы раздираемой борьбой между «большим барином»
и великим художником, между «христианином» и «язычником» и т. п. К плехановской и по сути дела
субъективистской методологии истолкования наследия Толстого, вольно или
невольно восходят все представления о дворянской природе дореформенного
творчества великого писателя, о дворянских тенденциях его творчества 60—70 гг.
Объяснять первую половину творческой деятельности Толстого по Плеханову, а
вторую по Ленину — значит впадать в недопустимый методологический эклектизм.
Выдавать по Плеханову и вопреки Ленину Толстого 50—70 гг. за идеолога
дворянства — прогрессивного или реакционного — все равно, это в
методологическом отношении то же самое, что считать Пушкина, как это и считали
вульгарные социологи, идеологом «обуржуазивающегося дворянства», а Гоголя —
литературным представителем «мелкопоместного дворянства». Очевидно, что в
анализе дореформенного и последующего творчества Толстого надлежит исходить не
из отдельно взятых и произвольно толкуемых высказываний Ленина, а из
марксистско-ленинской теории отражения и из самой методологии и исторической
концепции работ Ленина о Толстом,
Во всех
этих работах Ленин рассматривает кричащие противоречия воззрений и творчества
Толстого, как отражение объективных противоречий современной ему русской жизни.
Подчеркнув, что Толстой выступил как великий художник еще при
крепостном праве, Ленин далее уточняет: «но уже в такое время, когда оно явно
доживало последние дни»[10].
И это уточнение стоит в прямой связи с ленинским положением о том, что Толстой вполне
сложился, именно сложился, а не сформировался заново, в дореформенный, но
дореволюционный период русской жизни, «переходный характер которого породил все
отличительные черты и произведений Толстого и «толстовщины»[11].
Называя «толстовщину» идеологией «условий жизни, в которых
действительно находились миллионы и миллионы в течение известного времени»[12],
Ленин тут же указывает на то, что эта идеология была присуща Толстому на всем
протяжении его творческой деятельности, В доказательство этого Ленин ссылается
на рассказ «Люцерн», подчеркнув, что он был написан в 1857 году и на статью
1862 г. «Прогресс и определение образования», также подчеркнув дату се написания. Высказываниями
Толстого из этой статьи Ленин поясняет мысли, выраженные Толстым в статье 1900
г. «Рабство нашего времени». Тем самым Ленин констатирует прямую идейную связь
между ранним и поздним творчеством Толстого. Ее
закономерность обусловливается тем, что реформа 1861 г. те сняла, не разрешила
тех социально-экономических противоречий, которыми была вызвана к жизни, а
только «создала... условия, расширившие ту базу, на которой старое противоречие
разыгрывалось, расширившие круг тех групп, слоев, классов населения, которые
могли сознательно принять участие в «разыгрывании» этих противоречии»[13].
«Положение 19 февраля, — указывает Ленин, — есть один из эпизодов смены
крепостнического (или феодального) способа производства буржуазным (капиталистическим)»[14].
«1861-ый год породил 1905-ый... Реформа, проведенная
крепостниками в эпоху полной неразвитости угнетенных масс, породила революцию
к тому времени, когда созрели революционные элементы в этих массах»[15].
В перспективе очерченного Лениным процесса экономического и революционного
развития, берущего свое начало в дореформенном кризисе крепостнических
отношений и через реформу 1861 г. ведущего к революции 1905 г., и следует
ставить и. решать вопрос о социально-исторических истоках и общих закономерностях
творчества Толстого и его эволюции.
Всё
сказанное ни в какой мере не снимает вопрос об
известной дворянской ограниченности, присущей Толстому до перелома его
миросозерцания, и о том принципиально новом и очень важном, что внес этот
перелом в. творчество писателя. То обстоятельство, что «по рождению и
воспитанию Толстой принадлежал к высшей помещичьей знати в России», и то, что в
процессе своего сложного идейного развития «он порвал со всеми привычными
взглядами этой среды»[16],—
составляет одну из существенных, отличительных черт творческой биографии
великого писателя. Но важно понять, что своеобразие и величие творчества
Толстого, в том числе и его раннего творчества, определяется не теми или
другими связями с помещичьей знатью, а мерой идейного расхождения с нею. На
какой социально-исторической основе возникает у Толстого на заре его жизни и
деятельности это расхождение, какие тенденции общественного развития оно
отражает в процессе своего неуклонного нарастания — именно в этой плоскости
должен решаться вопрос о социальной природе творчества Толстого до перелома его
миросозерцания и о закономерности его эволюции. Видеть же, как это принято, в
дворянских пережитках сознания писателя ту социально-историческую почву, на которой якобы и
возникает его великое реалистическое искусство со всеми присущими ему
противоречиями — значит оставаться во власти вульгарно-социологической легенды
о Толстом, в корне чуждой и враждебной марксистской науке.
Методология ленинских работ о Толстом, ленинская теория отражения
обязывают исследователей и дают им все возможности понять сложную идейную
эволюцию «Льва русской литературы» (Горький), как процесс, возникающий и
развивающийся отнюдь не в закоулках той или другой разновидности
дворянско-помещичьей идеологии, а на генеральных, демократических, но в то же
время весьма противоречивых путях развития русской общественной и
художественной мысли.
Необходимо
отметить, что подобная точка зрения, так или иначе, уже не раз высказывалась
некоторыми исследователями. В книге Б. Мейлаха «Ленин и
проблемы русской литературы» (1947 г.) справедливо указывается на то, что сама
методология ленинских работ о Толстом «диктует необходимость нового анализа
истоков его мировоззрения», что «выяснение отношений Толстого к революционной
демократии 50—60-х гг. после ленинских статей о нем не может исчерпываться
ссылками на его личную враждебность к Чернышевскому и кругу «Современника» или
же на комедию «Зараженное семейство», что, несмотря на эту личную
враждебность, Толстой многими сторонами своей идеологии объективно приближается
к революционным демократам»[17].
В своей недавно опубликованной статье «Ранний Толстой» Б. Бурсов справедливо указывает на неразрывную связь истоков
творчества Толстого «с демократическим подъемом в стране, с ростом всей
передовой русской литературы»[18].
В статье «Реалистическое искусство Толстого» М. Храпченко,
со своей стороны, столь же справедливо выступает против обычного
противопоставления творчества писателя—до и после перелома его миросозерцания
— как двух противоположных по своей социальной природе явлений. Ни в какой мере не
стирая грани, отделяющие поздние произведения Толстого от ранних, М. Храпченко в то же время указывает на их «органическую,
внутреннюю связь» друг с другом, обусловленную тем, что в творчестве Толстого
на всех его этапах, хотя и в различной степени, «отразился народный взгляд,
народная точка зрения на явления общественной жизни»[19].
Раскрытию демократического характера творческого метода Толстого посвящена
интересная статья Т. Мотылевой «Принципы изображения человека в творчестве Л.
Н. Толстого»[20].
Настоящая
работа преследует цель проследить пути
формирования демократической тенденции
мировоззрения и творчества Толстого
в исходный, дореформенный период его литературной
деятельности.
НАЧАЛО ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1
Толстой
вступает в самостоятельную жизнь и в литературу в эпоху острого кризиса
крепостнических отношений.
К началу
40-х гг. разложение крепостнического строя стало настойчиво проявляться
решительно во всех областях русской жизни. Этим обстоятельством определяется
в первую очередь как самый процесс демократизации русской общественной мысли
40-50-х гг., так и то первостепенное значение, которое приобретает в общественно-литературной
борьбе этих лет проблема народности. Именно вокруг этой проблемы развернулась
во второй половине 40-х годов борьба Белинского за реалистическое и
демократическое искусство, борьба с охранительными теориями славянофилов и с
буржуазным космополитизмом «западников». Литературным знаменем этой борьбы
явилось обличительное творчество Гоголя.
Герцен,
Некрасов, Тургенев, Григорович и другие писатели-реалисты 40-х гг., продолжая и
развивая обличительные тенденции творчества Гоголя, наполняют их новым и
значительно более демократическим содержанием. Одним из главных предметов
изображения становится у этих писателей уже не столько обличавшиеся Гоголем носители
общественных и нравственных пороков крепостной жизни, сколько сама жертва
крепостнического угнетения и эксплуатации, т. е. само крепостное крестьянство.
Деревенская крестьянская тема становится у писателей гоголевской школы одной из
основных тем, а обличение крепостнического насилия — ведущей идейной
тенденцией.
В
реалистическом, антикрепостническом изображении деревенской жизни, в обрисовке
типов крепостных крестьян писатели гоголевского, «отрицательного» направления
руководились принципом «гуманности». Термин этот принадлежит Белинскому и
раскрывается им так: «Когда человек поступает с людьми, как следует человеку
поступать со своими ближними, братьями по естеству, он поступает гуманно; в
противном случае он поступает, как прилично животному. Гуманность есть
человеколюбие, но развитое сознанием и образованием»[21].
Понятие «гуманности» органически включало у Белинского отрицание крепостной
действительности, требование борьбы за освобождение народных масс от
самодержавно-крепостнического гнета, непримиримой борьбы со всем, что преграждает
путь к гражданской свободе, материальному благосостоянию и духовному развитию
народа, этого «плодовитого зерна русской жизни».
Гуманность,
сочувствие к страданиям закрепощенного крестьянства, уважение к его попранным
человеческим правам составляло положительное и
безусловно демократическое содержание обличительного направления в литературе
40-х гг. Наиболее явственно оно проявилось в «Деревне» (1846) и «Антоне
Горемыке» (1847) Григоровича и особенно в «Записках охотника» (1847— 1852)
Тургенева. Основное в этих произведениях — это уравнение мужика в его
человеческом «естестве» с людьми образованных, привилегированных классов.
Не нужно
говорить о том, какой огромной заслугой антикрепостнической литературы 40-х гг, было утверждение в мужике
человеческой личности и защита ее от помещичьего произвола. Но своей
собственной, особой социальной функции эта личность у писателей отрицательного
направления еще не имеет.
В основном
крестьянство выступает в произведениях Григоровича, Тургенева и других
писателей 40-х гг., как страдательная величина, как пассивная жертва
крепостнического насилия. В свете основной задачи «отрицательного направления»
— обличения темных сторон народной жизни — положительное содержание
крестьянского характера в его типических проявлениях не поддавалось раскрытию,
хотя и признавалось само собой разумеющимся. Известно, что попытка Григоровича
показать в образе Акулины («Деревня») человеческую глубину и сложность
внутреннего мира обездоленной крепостной крестьянки не увенчалась успехом.
Обаятельный образ крепостной актрисы, созданный Герценом в «Сороке-воровке»,
строится на трагическом противопоставлении ее артистической,
уже образованной искусством натуры и ее рабского положения. Внутренний мир
героини повести те типичен для крепостной женщины, т. к. высоко поднят над ее
уровнем и говорит о тех богатейших возможностях, но только возможностях,
которые таились в закрепощенном народе.
В
значительно более типических проявлениях положительное
содержание народного характера удалось раскрыть Тургеневу в «Записках
охотника» и, прежде всего, в рассказе «Хорь и Калиныч»
(1847). «Не удивительно,— писал в связи с этим Белинский,— что маленькая пьеска
«Хорь и Калиныч» имела такой успех: в ней автор зашел
к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто не заходил. ...С каким
участием и добродушием автор описывает нам своих героев, как умеет он
заставить читателей полюбить их от всей души»[22].
Идея
народности, пропагандируемая славянофилами, не имела ничего общего с трактовкой
проблемы народности Белинским и писателями гоголевской школы. Славянофильская
«народность» была не чем иным, как идеализацией переживших себя крепостных
отношений и порожденных ими, самых костных, отсталых черт крестьянского
сознания. Именно эти отношения и черты и выдвигались славянофилами в качестве
«исконных» свойств русской народности, долженствующих спасти Россию от всех бедствий
и потрясений (т. е. революций), пережитых буржуазным западом.
Изображение
народной жизни под углом зрения обличения ее крепостнических язв вызывало
в славянофильском лагере яростный
протест. Обвиняя Белинского и писателей отрицательного направления в «клевете»
на русский народ, славянофилы переадресовывали обличительные тенденции этого
направления, устремленные на раскрытие и бичевание страшных, нечеловеческих условий
жизни крепостной деревни к жертве этих условий— закрепощенному
народу. С этих лицемерных позиций подверг Самарин в «Москвитянине»
уничтожающему разбору «Деревню» Григоровича. Возражая Самарину, Белинский в
своем «Ответе «Москвитянину» писал: «Нападая на г. Григоровича за злостное,
будто бы, представление крестьянских нравов в его повести «Деревня», критик
«Москвитянина» не забыл заметить, что лицо Акулины очерчено риторически и
лишено естественности; а что в самой неудавшейся попытке автора повести показать
глубокую натуру в загнанном лице его героини видна его симпатия и любовь к
простому народу,— об этом он забыл упомянуть, вероятно, по избытку беспристрастия
и справедливости»[23].
То, что
критики славянофильского лагеря объявляли «клеветой» на русский народ,
выдвигалось и защищалось Белинским, как основная, отвечающая насущнейшим потребностям
народной жизни задача текущей литературы. «Если бы,— утверждал Белинский,—
преобладающее отрицательное направление и было в натуральной школе
одностороннею крайностию, и в этом есть своя польза,
свое добро: привычка верно изображать отрицательные
явления жизни даст возможность тем же людям или их последователям, когда придет
время, верно изображать и положительные явления жизни, не становя их на ходули,
не преувеличивая, словом, не идеализируя их риторически»[24].
Все эти
довольно общеизвестные факты литературно-общественной борьбы 40-х гг, необходимо было вспомнить
здесь потому, что они составляют идейно-литературный фон, на котором Толстой
вступает в самостоятельную жизнь и литературу. В то же время все эти факты
содержат в себе и с тем же самым классовым содержанием основные проблемы
борьбы, развернувшейся через десять лет в «Современнике» между революционными
демократами и либералами. Как известно, вопрос о гоголевском направлении
занимал в ней одно из первостепенных мест, а сам Толстой явился уже ее
непосредственным участником. В связи с этим возникает вопрос: в русле которой
из двух основных классовых тенденций общественно-литературной борьбы 40—50-х
гг. — обличительной (т. е. демократической) или либерально-охранительной (т. е,
в конечном счёте крепостнической) возникает и
развивается раннее творчество Толстого?
В списке
книг, произведших на него наибольшее впечатление в возрасте от 14 до 20 лет,
Толстой называет «Мертвые души» Гоголя, «Антона Горемыку» Григоровича,
«Записки охотника» Тургенева и «Полиньку Сакс»
Дружинина.
За
исключением «Мертвых душ», вышедших еще в 1842 году, все эти произведения были
напечатаны в 1847 году на страницах «Современника», только что перешедшего в
руки Некрасова и Белинского. Об «Антоне Горемыке» и «Записках охотника» уже
говорилось выше. Повесть Дружинина, примыкавшего тогда к обличительному
направлению, была напечатана в предпоследней книжке «Современника» за 1847 г. и
получила очень высокую оценку со стороны Белинского. В
статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский писал о ней: «...в
повести так много истины, так много душевной теплоты и верного сознательного
понимания действительности, так много таланта, и в таланте так много самобытности,
что повесть тотчас обратила на себя всеобщее внимание»[25].
Что же касается «Мертвых душ», то они, как известно, были тем произведением
Гоголя, к которому Белинский прежде всего возводил генеалогию «отрицательного»
направления.
Сказанное
дает основание утверждать, что уже в 1847 г. Толстой далеко не был человеком,
отрешенным от передовой общественной мысли. Он пристально следил за текущей
литературой и, прежде всего, за тем, что печаталось в передовом журнале —
«Современнике», и несомненно находился в какой-то
мере в сфере его
влияния, в сфере антикрепостнических
идей, развивавшихся Белинским и
руководимыми им писателями гоголевской школы.
Эти факты и
соображения придают совершенно определенный смысл тому решительному шагу,
которым девятнадцатилетний
Толстой начал самостоятельную жизнь, бросив весной 1847
года Казанский университету и
поселившись в Ясной Поляне с
намерением посвятить всю жизнь благоустройству своего помещичьего хозяйства
и улучшению жизни своих до тла
разоренных крепостных крестьян. Можно думать, что это решение было
продиктовано стремлением решить практически, для себя и по-своему, проблему
крепостных отношений, т. е. именно тот коренной вопрос современности, который
со всей остротой ставился в
статьях Белинского, в деревенских повестях Григоровича и
Тургенева.
Необходимо однако отметить, что при всем том проблема социального зла крепостничества стояла тогда перед Толстым в совершенно другом разрезе, нежели она ставилась передовой демократической мыслью. Ясно видя и признавая зло крепостничества, Толстой был тогда еще очень далек от понимания истинных причин этого зла и объяснял бедственное положение крестьян произволом «дурных» помещиков и самоуправством чиновников. В этом, безусловно, сказалось влияние воспитавшей его поместно-дворянской среды, в которой самый факт крепостной зависимости не вызывал ни сомнения, ни осуждения.
«Мысли о том,— говорит
Толстой в своих «Воспоминаниях»,— что этого не должно было быть, что надо было
их (крестьян — Е. К.) отпустить,
среди нашего круга б сороковых
годах совсем не было. Владение крепостными по наследству представлялось
необходимым условием, и все, что можно было сделать, чтобы это владение не
было дурно, это то, чтобы заботиться не только о материальном, но и
нравственном состоянии крестьян»[26].
Однако, разделяя еще в этом отношении привычные воззрения
помещичьей среды, юноша Толстой с совершенно необычными для этой среды
взволнованностью и внимательностью вглядывается в мрачный быт
крепостной деревни и стремится найти практические пути к его
оздоровлению. Важно
подчеркнуть, что в бедствиях крепостной деревни, по мере развития
товарно-денежных отношений
подвергавшейся вес более
жестокой крепостнической
эксплуатации, Толстой видел в те годы прямое следствие общественной
деградации, общественного и нравственного разложения поместного
дворянства. Соответственно этому экономическое и духовное оздоровление
помещичьего класса представлялось Толстому
насущнейшей задачей общенациональной жизни, основным путем преодоления
все возрастающих бедствий крепостного крестьянства.
Нетрудно
заметить близость этой исходной позиции Толстого к общественным воззрениям
Гоголя, противоречивость которых обнаружилась до конца на последнем этапе его
творческого пути.
Одной из
отличительных черт мировоззрения Гоголя
было неколебимое убеждение в том, что основная причина общественного
«нестроения» крепостнической России коренится в «нестроении» человеческих «душ»,
т. е. в нравственном разложении господствующего
класса крепостнического общества. Несмотря на наивность подобного убеждения и
те реакционные выводы, к которым оно под конец привело самого
Гоголя, поставленный им в
«Ревизоре» и «Мертвых душах» вопрос о
нравственном, ничтожестве, о духовном маразме правящих слоев николаевской
России имел огромное значение для развития антикрепостнической и
революционно-демократической мысли 40—50-х гг.
Одновременно
с Гоголем, хотя и в несколько ином разрезе, тот же самый вопрос ставился
Лермонтовым («Дума», «Герой нашего времени») и Герценом.
Проблеме
оскудения общественной нравственности, обличению лжи и лицемерия господствующей
крепостнической морали Герцен посвятил один из очерков цикла «Капризы и
раздумья» (1842 г.). Призывая здесь к «расчистке человеческого сознания» от
«наследственного хлама, от всего осевшего ила, от принимавши неестественного
за естественное, непонятного за попятное»[27],
Герцен говорит: «Современная мораль не имеет никакого влияния на наши
действия; это милый обман, нравственная благопристойность, одежда — не более. У
каждого человека за его официальной моралью есть свой спрятанный esprit de conduite,... Постоянная ложь, постоянное двоедушие
сделали то, что меньше диких порывов и вдвое больше плутовства, что редко
человек скажет другому оскорбительное слово в глаза и
почти всегда очернит его за глаза... Мы лжем на словах, лжем
движениями, лжем из учтивости, лжем из добродетели, лжем из порочности; лганье
это, конечно, много способствует к растлению, к нравственному бессилию, в
котором родятся и умирают целые поколения, в каком-то году и тумане проходящие
по земле... мы узнаем человека благовоспитанного по тому, что никогда не
добьешься от него, чтоб он откровенно сказал свое мнение»[28].
Эти строки,
созвучные лермонтовской «Думе» — с одной стороны и
обличительному пафосу «Мертвых душ» — с другой, в то же время четко формулируют
ту общественную проблему, которая стояла в центре жизненных и творческих
исканий молодого Толстого. В основе пристального интереса начинающего писателя
к «диалектике души», к «тайным процессам психической жизни» лежало недоверие к
нравственным нормам и идеологическим принципам породившей и воспитавшей его
дворянско-помещичьей среды. «Да уж не вздор ли все это?» — вот то сомнение, из
которого вырастает у Толстого напряженный и тревожный интерес к самому процессу
течения мыслей и чувств у людей своего круга и беспощадный психологический
анализ, вскрывающий «вздорность» этих мыслей и чувств. В этом отношении
Толстой, сам не зная того, решал именно ту задачу, которую ставил перед
литературой молодой Герцен, и теми же самыми художественными средствами, которые
предлагались Герценом.
Сетуя в
«Капризах и раздумьях» на то, что «никто не думает» о повседневной «домашней
жизни» современного общества, Герцен следующим образом аргументирует
необходимость ее пристального изучения: «Естествоиспытатели увидали, что не в
палец толстые артерии и вены, не огромные куски мяса могут разрешить важнейшие
вопросы физиологии, а волосяные сосуды, а клетчатки, волокна, их состав. Употребление микроскопа надобно ввести в нравственный мир, надобно
рассмотреть нить за нитью паутину ежедневных отношений, которая опутывает
самые сильные характеры, самые сильные энергии»[29].
С первых шагов своей литературной деятельности до самого ее конца Толстой видел
в искусстве «микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает
эти общие всем тайны людям»[30].
Здесь примечательно не только словесное совпадение с Герценом
(«микроскоп»). Важнее одинаковое с Герценом убеждение Толстого в необходимости
детального «микроскопического» изучения нравственного мира человека. В этом убеждении
уже было заложено зерно кричащих противоречий Толстого, во многом намечавшихся
еще у «поэта третьего сословия» (Белинский) Гоголя и до некоторой степени
присущих и революционному демократу Герцену. И это наглядно свидетельствует о
том, что становление мировоззрения и творчества Толстого происходило из путях противоречивого развития
демократической мысли 40—50-х гг.
Именно
стремлением разобраться в «паутине повседневных отношений» и привычных
представлений своей дворянской среды и был в первую очередь продиктован
Толстому его первый крупный художественный замысел — «Четыре эпохи развития»,
неполно осуществленный в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность».
Толстому
было 23 года, когда у него возникла потребность написать «историю» своей жизни
и проследить таким образом «ход своего морального развития». По своему сугубо
психологическому и автобиографическому характеру этот замысел непосредственно
примыкал к юношеским дневникам Толстого. Он вел дневник с 19-летнего возраста
и главным образом для того, чтобы иметь возможность беспристрастно, критически
судить о самом себе, повседневно наблюдать «ход» своего «развития».
Ранние
дневники явились своего рода творческой лабораторией будущего великого
писателя, лабораторией изучения «тайных процессов психической жизни» на материале
собственного духовного опыта. «Кто не изучил человека в самом себе,— писал о
Толстом Н. Г. Чернышевский,— никогда «е достигнет глубокого знания людей...
Мы не ошибемся, сказав, что самонаблюдение должно было чрезвычайно изострить
вообще его наблюдательность, приучить его смотреть на людей проницательным
взглядом»[31].
Переход от
дневниковой формы самонаблюдения и самоанализа к развернутому изображению
сложного процесса своего духовного развития явился началом творческой
деятельности Толстого, вывел его на путь широких художественных обобщений.
Толстой
начал писать задуманное произведение в 1851 году, очевидно еще в Москве, но
вплотную к работе над ним приступил уже на Кавказе летом того же года. К этому
времени первоначально сугубо автобиографический замысел приобрел уже отчетливо
художественные очертания и получил название «романа» «Четыре эпохи развития»
или «жизни»; К концу 1851 года была написана первая, черновая редакция романа,
обрывающаяся на конспективном изложении юношеских лет жизни его главного героя.
Однако в дальнейшем Толстой отказался от формы единого, сплошного повествования
и стал писать «роман» по частям, из которых каждая посвящалась определенной
«эпохе развития». Таким образом, задуманный автобиографический «роман» вылился в конечном счете в художественный цикл, состоящий
из трех более или менее самостоятельных произведений — повестей «Детство»,
«Отрочество», «Юность». Предполагавшаяся ранее и намеченная в планах «романа»
его четвертая часть — «Молодость» — осталась ненаписанной. Самое существенное
из пережитого Толстым в эту пору его жизни (т. е. после ухода из университета и
до отъезда на Кавказ) было отражено им в другом, совершенно самостоятельном произведении — в повести
«Утро помещика».
Говоря об автобиографизме трилогии Толстого, обычно имеют в виду
автобиографический характер жизненного материала, художественно отраженного в
ней. Но существо вопроса этим далеко не исчерпывается. Для понимания
идейного содержания и художественного своеобразия трилогии не так уж важно,
кого из окружавших его в ранние годы лиц и с какой степенью достоверности воспроизвел
Толстой в том или другом образе своего цикла, не так уж важно, насколько тс или
другие эпизоды «морального развития» Николеньки Иртеньева
отражают действительные события, реальные факты жизни Толстого. Но
очень важно для правильного понимания трилогии выявить ту идейно-художественную
функцию, которую несет в ней автобиографический элемент как определенный принцип
художественного отображения действительности.
Прежде всего необходимо отметить, что автобиографический характер
романа «Четыре эпохи развития» с самого начала органически сочетался с его
критической направленностью. Об этом свидетельствует самая развернутая из всех
имеющихся формулировок замысла романа, зафиксированная в следующей дневниковой
записи Толстого от 30 ноября 1852 г.: «Четыре эпохи жизни составят мой роман
до Тифлиса. Я могу писать про него, потому что он далек от меня. И как роман
человека умного, чувствительного и заблудившегося, он будет поучителен»[32].
Характеристика
«умного и чувствительного» героя романа, как человека «заблудившегося», очень
существенна для понимания идейного содержания замысла Толстого. Вскрыть корни
«заблуждений» своего героя, обнаружить то, что препятствовало развитию его
богатых от природы нравственных и умственных способностей,— такова, очевидно,
была основная задача, стоявшая перед Толстым в работе над «романом».
Центральный образ
трилогии — образ Николеньки Иртеньева полностью отвечает характеристике «умного, чувствительного и заблудившегося»
человека. В этом образе Толстой типизировал отрицательные стороны морального
развития человека дворянско-помещичьей среды, человека, в котором, говоря
словами Герцена, «естественный смысл ребенка» «развращался» со дня рождения
«воспитанием».
Образ
Николеньки Иртеньева автобиографичен
далеко не во всем, а преимущественно со стороны своего психологического
содержания. Именно в мыслях, чувствах, переживаниях Николеньки Толстой отразил
пережитое и передуманное им самим в ранние годы жизни. Что же касается внешних
фактов биографии Николеньки, то Толстой, во многом опираясь и здесь на
автобиографические данные, весьма свободно обращается с ними, постоянно
переплетая их с фактами и событиями жизни других известных ему людей и с
художественным вымыслом.
Эта сложная
лепка образа Николеньки, как и других образов трилогии, от начала и до конца
подчинена задаче реалистического, а тем самым и критического изображения действительности. Основным
средством такого изображения
служит в трилогии проникновенный психологический анализ, анализ того
многогранного и противоречивого
отражения, которое получает действительная жизнь во внутреннем мире
людей.
Трилогия
написана в форме воспоминаний взрослого человека о ранних, далеких,
безвозвратно ушедших годах своей жизни. Благодаря этой форме создается эстетическая
ощутимость автобиографичности образа Николеньки, в действительности ни в
какой мере не являющегося автопортретом автора. В этом и заключается
прежде всего художественное своеобразие трилогии, се принципиальное отличие от
художественно написанных автобиографий.
Повествование
ведется как будто от лица ее главного героя, но организующим речевым потоком
является отнюдь не повествовательная речь Николеньки, а лирическая речь
автора. Соответственно этому рядом с детским и юношеским образом Николеньки в
трилогии дан четко очерченный образ авторского «я», образ взрослого,
умудренного печальным опытом жизни человека, взволнованного воспоминаниями о
своем прошлом, заново переживающего и критически оценивающего его. Тем самым
точка зрения Николеньки на изображаемые события его жизни и авторская оценка
этих событий далеко не тождественны. Недооценка этого весьма существенного обстоятельства
и порождает обычно превратное представление о трилогии, как об идиллическом,
якобы, изображении дворянского быта, представление, которое еще до сих пор
разделяют некоторые исследователи Толстого.
В пределах
каждой отдельной части трилогии ход повествования определяется не столько
реальной последовательностью описываемых событий жизни Николеньки
сколько эмоциональным течением авторских воспоминаний об этих событиях.
Особым
характером авторских воспоминаний о каждой из трех «эпох жизни» определяются и
своеобразие композиции, и лирическая тональность каждой из повестей, входящих
в трилогию.
Наибольшим
своеобразием отличается композиция повести «Детство». Ее основное действие
протекает всего в два дня, довольно точно датированные. Первый день — в деревне
— падает на 12 августа 18.. года, второй — в Москве — наступает «почти месяц»
спустя после первого. При этом первый день является последним днем безмятежной
жизни братьев Иртеньевых в родном деревенском гнезде,
а второй — одним из дней далеко уже не столь безмятежного существования в
московском доме знатной и богатой бабушки. К изображению первого дня примыкает
глава «Разлука», посвященная отъезду мальчиков из деревни. События, охваченные
в заключительных главах повести — болезнь, смерть и похороны матери — даны
как печальный итог детских лет жизни Николеньки и протекают «почти шесть
месяцев» спустя после второго дня, т. е. между 16 и 20 апреля.
Таким
образом, все описанное в «Детстве» совершается на протяжении каких-нибудь семи
месяцев — между 12 августа 18.. года и 20 апреля следующего года. Несмотря на
краткость этого времени и эпизодичность падающих на него событий, из их
описания слагается удивительно полная и яркая картина целой эпохи человеческой
жизни, «счастливой, счастливой невозвратимой поры детства».
Ощущение
длительности и многозначительности этой
поры достигается тем, что она раскрывается перед читателем не столько в тех
конкретных событиях, которые совершаются в течение нескольких описанных дней
жизни Николеньки, сколько в «рое» авторских
воспоминаний, связанных с этими событиями.
Постоянное
вторжение в ход повествования лирического потока авторских воспоминаний далеко
раздвигает пространственные и временные рамки непосредственно совершающегося в
описываемые дни, придает значение, типичности и повторяемости тому, что в эти
дни происходит.
В дневнике
Толстого за 1853 г. имеется
следующая запись: «Я читал Капитанскую дочку и
увы! должен сознаться, что теперь уже проза Пушкина
стара — не слогом,— но манерой изложения... в новом направлении интерес
подробностей чувства заменяет интерес самых событий. Повести Пушкина голы
как-то»[33].
Эти слова очень точно характеризуют своеобразие творческого метода самого
Толстого, проявившееся уже в самых
первых его художественных
опытах, своеобразие его собственной «манеры изложения», при которой
сущность описываемых явлений
действительной жизни раскрывается через детальный анализ переживаний и
ощущений, вызываемых этими
явлениями. Именно в «подробностях» чувств, порождаемых у Николеньки
окружающей его обстановкой, а у автора — детскими
и юношескими воспоминаниями,
раскрывается в трилогии «паутина повседневных отношений», развращающая
человеческую личность.
В повести
«Детство» Николенька Иртеньев — это невинный, чистый
ребенок, радостно и гармонически воспринимающий все, что его окружает.
Первый из
описанных в повести дней протекает обычным для патриархального уклада
усадебной жизни порядком. Но грусть предстоящей разлуки придает всем, событиям
этого дня особую значительность и вызывает у автора рой воспоминаний о
безвозвратно ушедшем, счастье безмятежного детства. В этих воспоминаниях, постоянно
выходящих за пределы описываемого дня, но тесно связанных с его событиями, и
раскрывается с замечательной психологической верностью и художественной убедительностью
вся поэзия детства. И очень часто описание непосредственно происходящего в
этот день является не более как повествовательным обрамлением лирических
авторских воспоминаний.
Ярким
примером этого служит лирическое описание классной комнаты (гл. 1-я «Учитель
Карл Иваныч»). Оно обрамлено и мотивировано всего
только двумя повествовательными предложениями. Первое из них
(«Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке,
сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком...») отделено от второго
(«Карл Иваныч снял халат, надел синий фрак с
возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел
нас вниз — здороваться с матушкой...») семью обширными абзацами. В них
дано описание классной комнаты опять-таки в форме воспоминаний о том, что
когда-то много раз было пережито в ней автором. В непосредственно же
описываемый момент герой повествования входит в классную комнату только для
того, чтобы тотчас выйти из нее с Карлом Иванычем.
По своему стилю это лирическое описание-воспоминание резко
отличается от повествовательной речи самого Николеньки («Я живо оделся, умылся
и еще со щеткой в руках, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов. Карл Иваныч, с очками на носу...» и т. д.). Оно изобилует словами и выражениями, подчеркивающими ретроспективный
характер воспоминаний автора, рисующего образы далекого прошлого («Бывало, как
досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх,
в классную, смотришь — Кард Иваныч сидит себе
один...» «Бывало он меня не замечает, а я стою у
дверей и думают.., «Бывало, покуда поправляет
Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в
ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину, и смутно слышишь
оттуда говор и смех; так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь...»
Выражения «бывало», «иногда», «помню», «как теперь вижу», «как мне памятен» в сочетании с постоянно перемежающимися формами
прошедшего, настоящего и будущего времени подчеркивают характерность,
неоднократную повторяемость вспоминаемого автором. Тем самым и эпизодические на
первый взгляд происшествия описываемого дня (занятия отца с приказчиком, охота,
юродивый Гриша и др.) воспринимаются как явления, характерные для детских лет
жизни Николеньки, много, много раз повторявшиеся. Это впечатление закрепляется
обобщающим образом лирического воспоминания о «счастливой, счастливой
невозвратимой поре детства», данном в 15-й главе «Детства», непосредственно
следующей за главой «Разлука», в которой рассказывается об отъезде братьев
Иртньевых
из деревни.
Самое
главное в этом лирическом образе — глубокая: грусть о навсегда утраченном
счастье детской чистоты, непосредственности и безмятежности: «Вернутся ли когда-нибудь
та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь
в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели —
невинная веселость и беспредельная потребность любви были единственными
побуждениями в жизни... Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем
сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни
воспоминания?»[34] Таково
грустное авторское резюме всего сказанного в описании последнего дня
счастливого детства Николеньки и печальное введение к последующему развращению
мальчика «обществом и воспитанием». Начало этому развращению кладет та
атмосфера условности, натянутости, неискренности, которая царит в московском
доме богатой и важной бабушки братьев Иртеньевых,
чему в основном и посвящено описание второго дня. Следующие затем события —
болезнь, смерть и похороны матери, смерть Натальи Савишны
— изображены как скорбные события» знаменующие конец первой эпохи жизни
Николеньки я стоящие в преддверии следующей и тяжелой поры — отрочества.
Однако
содержание первой части трилогии далеко не исчерпывается изображением
внутреннего мира Николеньки, его субъективным и в основном наивно-радостным
восприятием окружающей жизни.
Детский мир
Николеньки, ограниченный пределами дворянской семьи и наследственной усадьбы,
действительно полой для него тепла и очаровании.
Нежная любовь к матери и почтительное обожание отца, привязанность к
чудаковатому добряку Карлу Иванычу, заботы а ласки растворенной в любви и преданности Натальи Савишны, убеждение, что все окружающее существует только для
того, чтобы «мне» и «нам» было хорошо, дружба и беспечные игры, безотчетная
детская наблюдательность, извлекающая интерес из всего, вплоть до наблюдения
за хвостом пристяжной,— все это, вместе взятое, окрашивает для Николеньки
жизнь в самые светлые, радужные тона. Но в то же время Толстой дает почувствовать,
что в действительности эта жизнь полна неблагополучия, горя, страдания. Запутанное материальное положение семьи, моральная нечистоплотность
облика отца, явно проступающая сквозь его внешнюю мягкость и доброту, трагизм
обаятельного образа матери, искалеченная жизнь Натальи Савишны,
горькая участь, ожидающая на старости лет Карла Иваныча,
грубое издевательство братьев Ивиных и Иртеньевых над бедным Иленькой Грап, наглость Этьена Корнакова — все эти характерные штрихи и детали, еще далеко
не осознанные Николенькой, но играющие весьма важную роль в авторской
оценке изображаемого, раскрывают оборотную и неприглядную сторону того, что
казалось Николеньке таким милым и дорогим.
Мир действительных отношений усадебной и светской жизни
раскрывается в «Детстве», равно как и в последующих частях трилогии, неизменно
в двух различных аспектах: в том виде, как он воспринимается сначала наивным
ребенком, а потом «развращенным» подростком и «заблудившимся» юношей, и наряду
с этим — со стороны своего объективного общественно-нравственного содержания,
как оно понимается автором. На постоянном сопоставлении и столкновении этих двух аспектов и
строится все повествование.
Образы всех
действующих в трилогии лиц группируются вокруг центрального образа Николеньки Иртеньева. Реальное содержание этих образов выявляется не
столько в субъективном отношении к ним Николеньки, сколько в том влиянии,
которое они объективно оказали на его духовное развитие, о чем сам Николенька
судить не может, но зато весьма определенно судит автор. Наглядным примером
служит подчеркнутое противопоставление детского отношения Николеньки к Наталье Савишне авторскому «воспоминанию» о ней. «С тех пор, как я
себя помню, помню я и Наталью Савишну, её любовь и
ласки; но теперь только умею ценить их...» Это говорит автор. Что же касается
Николеньки, то ему «и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание
была эта старушка». Николенька «так привык к её бескорыстной
пеленой любви..., что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не
был благодарен ей»[35].
Мысли и чувства Николеньки, наказанного Натальей Савишной
за испачканную скатерть, проникнуты барским высокомерием, оскорбительным
пренебрежением к этой «редкой» «чудесной» старушке: «Как,— говорил я сам
себе, прохаживаясь по зале и захлебываясь от слез,— Наталья Савишна,
просто Наталья, говорит мне ты, и ещё бьёт меня по лицу мокрой
скатертью, как дворового мальчишку. Нет, это ужасно!»[36]
Однако,
несмотря на пренебрежительное отношение и вопреки невниманию Николеньки к
Наталье Савишне («Я… никогда не задавал себе
вопросов: а что, счастлива ли она? довольна ли она?»[37]),
последняя оказывает на Николеньку, на его «направление и чувствительность» едва
ли не самое «сильное и благое влияние»[38].
В
совершенно ином отношении к моральному развитию Николеньки дан в трилогии
образ его отца Петра Александровича Иртеньева.
Заслуживает
внимания тот факт, что прототипом этого образа Толстой избрал не своего отца,
Николая Ильича, а одного из его друзей — Л.М. Исленьева.
И несмотря на то, что в почтительной детской любви Николеньки к отцу несомненно отражены те чувства, которые сам Толстой
питал в детстве к Николаю Ильичу, образ Петра Александровича Иртеньева не соотносим с человеческим обликом отца
писателя. Соответственно с этим восторженное отношение Николеньки к своему
отцу в «Детстве», проникнутое глубочайшим уважением ко всем словам и
поступкам папа, не только не выражает авторской оценки этого человека, а,
наоборот, резко противостоит ей. Наглядным примером служит явно отрицательная
характеристика, данная Петру Александровичу от автора в главе «Что за человек
был мой отец?». «Его натура, — сказано здесь,— была одна из тех, которым для
хорошего дела необходима публика. И то только он считал хорошим, что называла
хорошим публика. Бог знает, были ли у него какие-нибудь нравственные
убеждения... те поступки и образ жизни, которые доставляли ему счастие или удовольствие, он считал хорошими и находил, что
так всегда и всем поступать должно. Он говорил очень увлекательно, и эта
способность, мне кажется, усиливала гибкость его правил: он в состоянии был тот
же поступок рассказать как самую милую шалость и как низкую подлость»[39].
Именно этой
отрицательной авторской характеристике, а не сыновним чувствам ребенка
Николеньки отвечает реальное содержание образа Петра Александровича. В
«Детстве» оно обнаруживается в сцене «занятий» Петра Александровича с
приказчиком (гл. «Папа»), в трагизме образа матеря, в недоброжелательстве
бабушки к недостойному мужу обожаемой дочери (гл. «Князь Иван Иваныч»).
Как и
другие образы взрослых людей, окружающих Николеньку, образ отца раскрывается не
в своем собственном развитии, а через развитие Николеньки, по мере своего
возмужания постепенно освобождающегося от детских иллюзий. Постепенное
разочарование в горячо любимом отце оставляет в душе Николеньки тяжелый и
неизгладимый след. С наибольшей отчетливостью это проступает в главе
«Отрочества» — «Папа» (волокитство отца за горничной) и в главах «Юности» —
«Женитьба отца» и «Мачеха».
Образ отца,
постепенно падающего все ниже и ниже в глазах подрастающего сына, играет в
идейном замысле трилогии очень важную роль. И не случайно
первая редакция «Четырех эпох развития» открывалась резко обличительной
характеристикой отца, данной по противоположности восторженной характеристике
умершей матери: «...ежели я его часто обвиняю, обсуживаю его дела и не
чувствую к нему десятой доли того чувства, которое питаю к памяти матушки, то
это оттого, что я не могу не судить его. — Как не больно, не тяжело мне
было по одной срывать с него в моих понятиях завесы, которые закрывали мне его
пороки, я не мог не сделать этого. А какая может быть любовь без уважения?»[40]
Эти слова предваряют итог того разочарования в отце, к которому в трилогии
Николенька приходит постепенно в отроческие и юношеские годы. Постепенное
«срывание завес», скрывающих от ребенка пороки обожаемого им человека,— такова
в трилогии основная линия раскрытия образа отца.
Взятый сам
по себе этот образ строится на противопоставлении блестящей светской репутации
Петра Александровича аморальности, нечистоплотности его внутреннего облика.
За внешним обличьем Петра Александровича, обаятельного светского человека,
любящего мужа и нежного отца, скрывается азартный картежник и сластолюбец,
обманывающий свою жену и разоряющий своих детей.
В том же
разрезе дан в трилогии и образ Володи Иртеньева.
Старший, обожаемый в семье сын, Володя является для Николеньки постоянным и
недосягаемым образцом подражания. Умный, ловкий, самоуверенный, прекрасно
владеющий собой, он восхищает застенчивого Николеньку свободой обращения и
изяществом манер. Но изящество внешнего облика Володи
в конечном счете оказывается маской, за которой скрывается то, что Толстой
назвал в своем юношеском дневнике «ранним развратом души», т. е. нравственная
распущенность, приверженность к волокитству, к праздному, пустому светскому
времяпровождению. Таким уже развращенным и духовно опустошенным юношей
предстает перед читателем и самим Николенькой Володя в «Юности», в главах, повествующих
о его похождениях с Дубковым и о взаимоотношениях с младшим братом.
В образе
Володи, во многом как бы повторяющем образ отца (это подчеркнуто
«поразительным» сходством их манер), Толстой раскрывает не только порочность
психологии comme il faut, но и самый процесс ее формирования у
светского молодого человека.
В ряд с
образами отца Николеньки и его старшего брата становятся в трилогии и все
другие образы типичных представителей дворянского света: бабушки с ее самодурством и высокомерием, семьи Корнаковых,
являющейся образцом бездушия светского воспитания, надменных, самодовольных
барчуков братьев Ивиных.
Особое
место занимает в трилогии образ князя Ивана Иваныча.
«Благородный характер», «возвышенный образ мыслей», «твердость и прямота»
выделяют его старомодную, но привлекательную фигуру на общем фоне светского
лицемерия и беспринципности. Толстой безусловно
идеализировал в этом образе старую русскую аристократию. Но вместе с тем
очевидно, что образ Ивана Иваныча — человека «прошлого
века», был нужен Толстому для того, чтобы рельефнее оттенить духовное ничтожество
современного ему дворянского света, утратившего всякое подобие духовного
аристократизма.
Безнравственность
светских нравов и отношений раскрывается в трилогии постепенно, по мере
постижения ее подрастающим Николенькой. Моральное развитие Николеньки,
«диалектика» его души являются не только сюжетным, но и композиционным
стержнем повествования, принципом, организующим всю его образную структуру.
Как об этом свидетельствуют планы романа «Четыре эпохи развития»,
Толстой с самого начала работы над ним ставил перед собой задачу «резко
обозначить» в образе Николеньки «характеристические черты каждой эпохи жизни: в
детстве теплоту и верность чувства; в отрочестве — скептицизм, сладострастие,
самоуверенность, неопытность и (начало тщеславия) гордость; в юности красота
чувств, развитие тщеславия и неуверенность в самом себе; в молодости — эклектизм в чувствах, место
гордости и тщеславия занимает самолюбие, узнание
своей цены и назначения, многосторонность, откровенность»[41].
Согласно
этой отвлеченно-психологической градации ранних «эпох» человеческой жизни
детство является счастливой порой гармонического «естественного» состояния
человеческой души. Линии ее дальнейшего развития четко обозначились перед
Толстым уже к началу работы над «Отрочеством». Определяя для себя главную мысль
этой второй части повествования, Толстой вместе с тем определяет и ее место в
композиционной структуре трилогии, как единого художественного целого: «Интерес
Отрочества должен состоять в постепенном развращении мальчика после
детства и потом в исправлении его перед юностью». (Запись в дневнике от 16 октября 1853 г.)[42].
В
«Отрочестве» «исправление» Николеньки только намечается в главах «Я» и «Начало
дружбы». В «Юности» это исправление становится ведущей темой, развернутой как
процесс назревающего у героя трилогии духовного конфликта с породившей его
общественной средой.
Отрочество
— самая мрачная эпоха жизни Николеньки, и безрадостные воспоминания о ней
резко контрастируют по своей эмоциональной окраске с лирическими и
поэтическими воспоминаниями детства и светлыми воспоминаниями юности: «Да, чем
дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей жизни, тем тяжелее и труднее
становится оно для меня. Редко, редко между воспоминаниями за это время нахожу
я минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало
моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и
достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежное, благородное
чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало
новой, исполненной прелести и поэзии, поре юности»[43].
На первый
взгляд может показаться, что в обрисовке духовного развития своего героя
Толстой исходят только из возрастных, чисто психологических отличий стадий
формирования человеческой личности. В действительности же Толстой рисует
процесс формирования не абстрактного человека, а человека определенной
социальной среды. И по мере своей художественной конкретизации отвлеченно
психологические категории, которыми писатель оперирует в характеристике своего
героя на разных этапах его развития, как-то: «скептицизм», «сладострастие»,
«тщеславие», «самолюбие» и т. д., наполняются совершенно определенным
социальным содержанием, раскрываются как характерные черты определенной и при
этом нравственно порочной социальной психологии.
Задавшись
целью выявить «характеристические» черты каждой из описываемых «эпох»
человеческой жизни, Толстой вслед за тем говорит о необходимости «показать
дурное влияние» на героя трилогии «тщеславия воспитателей и столкновения
интересов в семействе»[44].
Так социальный фактор — влияние среды — вступает во взаимодействие с фактором
собственно психологическим.
В одном из
вариантов черновой редакции «Отрочества» наглядно выявляются пути и характер
этого взаимодействия. Отмечая, что зародыши неприязненных чувств — злобы,
скрытности, мечтательности, недоверчивости к себе и к другим — составляют
отличительные черты этого возраста, Толстой далее говорит: «Это есть род
моральной оспы — смотря по обстоятельствам, в различной степени силы —
прививающейся к ребенку. Причина такого состояния есть: первое понятие ребенка,
— уясненное сознанием, — о существовании зла»[45].
Эпоха
отрочества открывается для Николеньки его тяжелым разговором по пути в Москву с
дочерью гувернантки Катенькой о ее необеспеченном будущем (гл. 3 «Новый
взгляд»). «Вы богаты — мы бедны...»,— эти слова Катеньки и «понятия, связанные
с ними», заставляют мальчика «уяснить сознанием» социальное неравенство в
окружающей его жизни и тем самым совершенно по-новому взглянуть на нее.
«Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что ваш
взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто вес предметы, которые вы видели
до сих пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого
рода моральная перемена произошла во мне в первый раз, во время нашего
путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества»[46].
Таким образом, проникновение в детскую душу сознания зла социального
неравенства вызывает в нем нравственное смятение и кладет начало его
отроческому «развращению».
«Отрочество»
состоит из двадцати семи глав. Между ними почти нет сюжетной и временной
последовательности. Каждая из них представляет собой или самостоятельное
описание какого-либо происшествия, приключившегося с Николенькой (главы:
«Дробь», «Единица», «Ключик», «Затмение», «Изменница»), или же характеристику
лиц его ближайшего окружения (главы: «Старший брат», «Маша»,
«Володя», «Катенька и Любочка», «Приятели Володи»,
«История Карла Иваныча»). Общее направление
отроческого развития Николеньки раскрывается в процессе взаимоотношения
мальчика с окружающими людьми. Так, стремление быть похожим на старшего
«комильфотного» брата Володю и сознание собственной «некомильфотности»
порождают у Николеньки сомнение в своих силах и способностях, отсюда и его
замкнутость, неловкость, зависть, желание прихвастнуть и показать себя «с
самой выгодной стороны». Неловкое положение, в которое он при
этом часто попадает, больно колет его самолюбие, еще больше отдаляет от людей
(см. главы: «Старший брат», «Изменница», «Приятели
Володи», «Рассуждение»).
Бездушная
система светского воспитания, применяемая к Николеньке Сен-Жеромом,
сменившим доброго и любимого детьми Карла Иваныча, пробуждает в Николеньке чувство ненависти и
злобы.
Ухаживания
Володи за горничной пробуждают у Николеньки чувственность, желание и в этом
подражать старшему брату.
Тонким и
верным выражением развращающего влияния на ребенка светской фальши служит также
образ дочери гувернантки — Катеньки, типичной салонной барышни. В главе
«Катенька и Любочка» отчетливо выявлено человеческое
превосходство Любочки, которая «во всем проста и
натуральна», над Катенькой, которая всегда «как будто хочет быть похожей на
кого-то». Однако глава заканчивается несколько неожиданным, после всего
сказанного в пей, но весьма характерным авторским
признанием: «Но Катенька, по моему тогдашнему мнению, больше похожа на большую,
и поэтому гораздо больше мне нравится»[47].
Противительный союз «но» недвусмысленно подчеркивает извращенность понятий и
вкусов самого Николеньки.
Самым
тяжелым нравственным испытанием отроческих лет явилось для Николеньки
непонятное его детскому сознанию недостойное поведение отца. Этой теме посвящена
глава «Папа». Не успев отереть слезы, навернувшиеся у него при воспоминании о
покойной жене, Петр Александрович тут же, на глазах у сына, пристает к
горничной. «Я люблю отца,— говорится в заключение этой сцены,— но ум человека
живет независимо от сердца и часто вмещает в себя мысли, оскорбляющие чувство,
не понятные и жестокие для него. И такие мысли, несмотря на то, что я стараюсь
удалить их, приходят мне»[48].
Таким
образом, нравственные пороки отроческого возраста развиваются в Николеньке под
прямым воздействием окружающих его людей, близких и дорогих мальчику,
уважаемых в своем кругу, а в действительности пустых и безнравственных.
Из
«пустыни» отрочества Николеньку выводит пробудившееся в нем чувство любви к
людям и к жизни. Юность Николеньки — пора обретения утраченных
в годы отрочества силы и теплоты чувства, но уже не безотчетных, как в детстве,
а проникнутых сознательным стремлением к добру, верой в него. Именно это нравственное
стремление лежит в основе юношеского исправления Николеньки от его отроческих
пороков, в основе его юношеской переоценки себя и окружающего. В процессе этой
переоценки Николенька приходит к сознательному осуждению всех своих прежних
представлений о человеческом достоинстве, привитых ему «воспитанием и
обществом» и выражаемых понятием comme il faut. В одноименной главе «Юности»
раскрывается до конца тот духовный тупик, в который завели «умного и чувствительного»
юношу аморальная светская среда, уродливое светское воспитание: «Уже несколько
раз в продолжение этого рассказа я намекал на понятие соответствующее этому
французскому заглавию, и теперь чувствую необходимость посвятить целую главу
этому понятию, которое в моей жизни было одним из самых пагубных, ложных
понятий, привитых мне воспитанием и обществом»[49].
Осуждая барское пренебрежение к людям, составляющее обязательное свойство
человека comme il faut, Толстой вместе с тем раскрывает
паразитическую сущность этой чисто внешней, показной нормы светского
поведения: «Главное зло состояло в том убеждении, что comme
il faut есть
самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни
чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он comme il faut;
что, достигнув этого положения, он уже исполняет свое назначение и даже
становится выше большей части людей... Я знал и знаю очень, очень много людей
старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если
такой задается им на том свете: «Кто ты такой? и что ты там делал?» не будут в
состоянии ответить иначе как “je fus un home tres comme il faut”. Эта участь ожидала меня»[50].
Разоблачению
пагубности и ложности светских, понятий посвящены в «Юности» также главы, повествующие
о взаимоотношениях Николеньки с
студентами-разночинцами. Общение с Зухиным и его
далеко: не «комильфотными» товарищами, их простота, непосредственность, умение
и желание работать и бьющая в них молодая энергия раскрывают Николеньке глаза
на неоправданность его светского гонора и высокомерия: «Так что же такое была
та высота, с которой я смотрел на них? Мое знакомство с князем Иваном Иванычем? Выговор французского языка? дрожки? голландские
рубашки? ногти? Да уж не вздор ли все это?»[51]
Именно тяжелым, безнравственным «вздором» оборачивается в просветленном
юношеском сознании Николеньки все впитанное им под влиянием окружающего в
отроческие годы.
Нравственное просветление Николеньки, уже стремящегося
освободиться от этого «вздора», но еще далеко не готового к тому, и составляет
ведущую тему «Юности». Недаром «главным чувством» юношеской
поры жизни Николеньки оказывается «отвращение к самому себе и раскаяние, но
раскаяние до такой степе ни слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в
себе ничего печального. Мне казалось так легко и естественно оторваться
от всего прошедшего, переделать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со
всеми ее отношениями совершенно снова, что прошедшее
не тяготило, не связывало меня»[52].
Однако в
действительности Николенька не может порвать с прошедшим и власть «прошедшего»,
власть аристократических навыков и представлений оказывается сильнее его
светлых юношеских мечтаний. На этом противопоставлении мечты и
действительности и строится весь образ Николеньки-юноши. Барские привычки и
предрассудки заставляют Николеньку, вопреки его воле и благим намерениям,
пренебрегать студенческими обязанностями, нелепо сорить деньгами, презирать
разночинца Иленьку Грап,
безудержно хвастать своими аристократическими знакомствами, оригинальничать и
«показывать себя с самой выгодной», а на самом деле невыгодной «стороны». И если «по вечерам... после общества Зухина
и других товарищей» на Николеньку «находила мысль о том, что надо переменить
что-то в своих убеждениях, что что-то в них не так и нехорошо», то «утром, с
солнечным светом» он «снова становился comme il faut, был очень доволен этим и не желал в себе никаких
изменений»[53].
Заключительная
глава «Юности», многозначительно озаглавленная «Я проваливаюсь», звучит как
печальный и неизбежный итог всего предшествующего «развития» Николеньки.
Скандальный провал на университетском экзамене — тяжелое моральное поражение,
понесенное Николенькой при первом ответственном испытании, встретившемся на его
жизненном пути. Отчаяние, охватившее Николеньку после провала, разрешается
«моральным порывом» глубокого раскаяния и твердой решимостью начать новую — деятельную
и нравственную — жизнь: «Я заплакал, но уже не слезами отчаяния. Оправившись,
я решился снова писать правила жизни и твердо был
убежден, что я уже никогда не буду делать ничего дурного, ни одной минуты не
проведу праздно и никогда не изменю своим правилам». Однако следующие за этим и
заключающие все повествование слова содержат в себе явный намек на
несбыточность и этих благих намерений: «Долго ли продолжался этот моральный порыв,
в чем он заключался и какие новые начала положил он моему моральному развитию,
я расскажу в следующей, более счастливой половине юности»[54].
Вторая половина «Юности» (по первоначальным планам четвертая «эпоха жизни» —
«Молодость») написана не была.
В самой
постановке вопроса о путях морального развития подрастающего поколения уже
проявилась та отличительная черта творческой индивидуальности Толстого, которую
Чернышевский назвал «непосредственной чистотой нравственного чувства». Разбирая
«Детство» и «Отрочество», Чернышевский утверждал, что без «непорочности
нравственного чувства невозможно было бы не только исполнить эти повести, но и
задумать их»[55].
На
подцензурном языке Чернышевского понятие нравственности было неотделимо от
понятия протеста против пошлости и мерзости крепостной действительности. И давая понять, что именно разумеет он, говоря о «чистоте
нравственного чувства» молодого автора «Детства» и «Отрочества», Чернышевский
поясняет: «Мы не проповедники пуританизма... самый искренний и правдивый
моралист вреден тем, что ведет за собой десятки лицемеров, прикрывающихся его
именем. С другой стороны, мы не так слепы, чтобы не видеть чистого света
высокой нравственной идеи во всех замечательных произведениях литературы
нашего века. Никогда общественная нравственность не
достигала такого высокого уровня, как в наше благородное время,— благородное и
прекрасное, несмотря на все остатки ветхой грязи, потому что все силы свои
напрягает оно, чтобы омыться и очиститься от наследственных грехов»[56].
Как
очиститься от наследственных грехов, как предохранить от ветхой грязи молодое
поколение,— вот тот основной вопрос, который был поставлен Толстым в трилогии.
«Непосредственная чистота нравственного чувства» органически включена в
повествование о постепенном развращении умного и чувствительного мальчика и
юноши аморальной средой, как руководящий критерий эстетической оценки
изображаемой действительности. Чистота нравственного чувства — это и было то,
что причисляло в глазах Чернышевского молодого Толстого к очистительному
демократическому потоку современности.
Но, поставив
вопрос о духовной несостоятельности господствующего духовно вырождающегося
сословия дворян-крепостников, Толстой решает его не как конкретно-исторический
вопрос современной ему общественной жизни, а как вопрос личной нравственной
жизни человека, его личной совести. С наибольшей очевидностью это проявляется
в заключительной части трилогии — «Юности». Толстой вместе со своим героем
впадает здесь иногда в абстрактное морализирование, что в свое время вызвало
резкое недовольство Чернышевского, как решение проблемы, глубоко чуждое
задачам и целям революционно-демократической борьбы.
Наиболее
ярким примером служит обрисованная в «Юности» сцена безобразного избиения
другом Николеньки Нехлюдовым своего дворового мальчика. Осуждая этот поступок,
Николенька, на этот раз вместе с автором, жалеет не столько пострадавшего
мальчика, сколько Нехлюдова, униженного и пристыженного своим отвратительным
поведением. Тем самым вопрос о крепостническом насилии решается в этой сцене
отнюдь не с точки зрения нетерпимости положения его жертв, а всего лишь как
проблема личной совести и нравственного неблагополучия тех, кто его совершает.
В этом уже проявилось одно из основных противоречий Толстого — гениального и
трезвого художника-реалиста, бессильного, однако, дать правильный ответ на
поставленные им вопросы русской жизни, потому что он решал их не с
конкретно-исторической, а с отвлеченно-моралистической точки зрения.
Отвлеченно-моралистической
трактовкой поставленного в трилогии вопроса о духовном разложении крепостнического
класса обусловливается ограниченность идейной проблематики этого раннего
художественного цикла Толстого. Тем не менее
поставленные в трилогии нравственно-психологические проблемы были насыщены
глубоким социальным содержанием. Нравственному ничтожеству, моральной
нечистоплотности дворянских верхов противопоставлена нравственная чистота,
духовное благородство простых людей, вся жизнь которых посвящена труду и
исполнена тяжелых лишений.
В ряде
случаев именно критическое, трезвое отношение крепостных к своим господам
выступает в трилогии в качестве объективного критерия оценки господской психологии
и поведения, В сцене никчемных, бестолковых, но преисполненных для Николеньки
великого и таинственного смысла «занятий» Петра Александровича Иртеньева с приказчиком Яковом великолепно обрисованная
фигура Якова дышит затаенным презрением К
бесхозяйственному и лицемерному барину. В главе «Охота» доезжачий Турка
«внимательно выслушал от папа подробное наставление,
как равняться и куда выходить». «Впрочем,— следует далее,— он никогда не
соображался с этими наставлениями, а делал все по-своему...»[57]
В главе «Приготовление к охоте» ловкая, уверенная деловитость старого
дворецкого Фоки оттеняет бестолковую суетливость отправляющихся на охоту
барынь. В столкновении юного князя Этьена Корнакова с кучером Филиппом, низость и безобразность
поведения наглого барчука возмущает собравшихся в прихожей лакеев, в то время
как Николенька ведет себя по меньшей мере
двусмысленно.
Особое
место занимает в повествовании образ крепостной экономки Иртеньевых
Натальи Савишны. Нравственное превосходство Натальи Савишны над господами, искалечившими всю ее жизнь, особенно
наглядно раскрывается в изображении панихиды по матери Николеньки. Из всех
присутствующих только одна Наталья Савишна
по-настоящему охвачена горем, от души и с отчаянием оплакивает умершую. «Вот кто истинно любил ее»,— думает Николенька, и
ему становится «стыдно за самого себя», за то, что его, как и других,
занимают в эту трагическую минуту мелочные тщеславные мыслишки. В сцене отъезда
мальчиков из деревни Николенька, «раздраженный» запахом сала, идущим от голов
прощающейся с ним «докучной дворни», «чрезвычайно холодно поцеловал в чепец
Наталью Савишну, когда она вся в слезах» прощалась с
ним[58].
Все эти незначительные на
первый взгляд штрихи говорят об очень многом. Они рисуют
Наталью Савишну носительницей глубоких человеческих
чувств, недоступных ее господам. Но эта человечность проявляется в Наталье Савишне не абстрактно, а в типичных для ее социального
облика и во многом уродливых формах рабской преданности господам. «Что-ж, ежели се верования могли бы
быть возвышеннее, ее жизнь направлена к более высокой цели; разве эта чистая
душа от этого меньше достойна любви и удивления?»[59]
— спрашивает Толстой, намекая этим на рабскую ограниченность психологии
Натальи Савишны и в то же время подчеркивая всю
чистоту и искренность ее чувств. Однако авторское умиление всепрощающей любовью
Натальи Савишиы к своим господам, равно как и
авторская оценка «великого христианина» юродивого Гриши, свидетельствуют о том,
что известная идеализация самых отсталых черт патриархально-крестьянской
психологии была изначала присуща Толстому и уже в дореформенные годы во многом
предопределила противоречивость его творческой мысли.
Чистотой души,
силой бескорыстной человеческой привязанности наделен в трилогии и образ
чудаковатого, бедного, одинокого, как перст, недалекого, но доброго и честного
старика Карла Иваныча. И если бездушная муштра
модного светского гувернера Сен-Жерома только ожесточает
Николеньку, доводит его до дикого упрямства и бешенства, то уже одна только
мысль о добром и любимом Карле Иваныче вносит
умиротворение в оскорбленную душу мальчика. Запертый в чулан Сен-Жеромом Николенька находит «грустное утешение» в том,
что, вообразив себя «несчастным сиротой» и подкидышем, уподобляет себя Карлу Иванычу: «Мне отрадно думать, что я
несчастен не потому, что виноват, но потому, что такова моя судьба с самого
моего рождения, и что участь моя похожа на участь несчастного Карла Иваныча»[60].
Следующий за тем воображаемый разговор Николеньки с отцом, выражающий детское
представление Николеньки о благородстве, не только по содержанию, но и по
сентиментально-торжественному тону непосредственно восходит к соответствующим
местам «Истории Карла Иваныча»,
непосредственно навеян ею. «История» Карла Иваныча, рассказанная от его лица в трех главах,
глубоко трогает мальчика, чувствующего за ее фантастическими и сентиментальными
«красотами» всю горечь судьбы доброго и наивного старика. И если Наталья
Савишна и мать Николеньки являются самыми светлыми
воспоминаниями детских лет его жизни, то воспоминания о Карле Иваныче остаются едва ли не единственным светлым
пятном на безотрадном фоне «пустыни отрочества».
Таким
образом, при всей абстрактности того «добра» во имя которого
«непосредственное нравственное чувство» автора трилогии, а иногда и ее
главного героя, восстает против аморальности светских
отношений и нравов,
живыми носителями этого чувства выступают
в трилогии обездоленные крепостническим бытом
скромные труженики. Их душевная
чистота, искренность я непосредственность оттеняют эгоизм,
развращенность и лицемерие дворянско-светского
окружения Николеньки. Любопытно сопоставить
в этом отношении главы «Отрочества» — «Девичья» и «Папа».
Примитивно и грубовато выражающаяся, но
глубокая любовь друг к другу крепостной горничной Маши и дворового Василия обнажает
всю пошлость и
безнравственность господских
ухаживаний за Машей
старшего брата Николеньки: Володи и их «чувствительного»
отца.
Крепостной
труженик, человек труда, как таковой, утверждается в трилогии не только в своем
высоком нравственном содержании, но и в качестве достойнейшего предмета
эстетического изображения. Этому вопросу посвящено в «Отрочестве» описание
девичьей, начинающееся следующим обращением к читателю: «Не гнушайтесь,
читатель, обществом, в которое я ввожу вас. Ежели в
душе вашей не ослабли струны любви и участия, то и в девичьей
найдутся звуки, на которые они отзовутся. Угодно ли вам, или не угодно будет
следовать за мною, я отправляюсь на площадку лестницы, с которой мне виднее
все, что происходит в девичьей»[61].
Обращают на, себя внимание та теплота и задушевность, с
которыми дальше изображается девичья. Как любовно выписана ее убогая, но
трудовая обстановка: «Вот лежанка, на которой стоит утюг, картонная кукла с
разбитым носом, лоханка, рукомойник; вот окно, на котором в
беспорядке валяются кусочек черного воска, моток шелку, откушенный зеленый огурец
и конфетная коробочка, вот и большой красный стол, на котором, на начатом
шитье, лежит кирпич, обшитый ситцем, и за которым сидит она (горничная
Маша — Е.К.), в моем любимом,
розовом холстинковом платье и голубой косынке, особенно привлекающей мое
внимание»[62].
Уже в одном
этом лирическом описании девичьей наглядно проявляется идейное влияние на
молодого автора лучших гуманистических традиций гоголевского направления. В
своем обличении крепостнического насилия и самодержавно-полицейского гнета Гоголь
и писатели его школы искали и находили «плодовитое зерно русской жизни» в
неиссякаемых, но тогда еще скованных, нравственных силах закрепощенного
народа. Обнажая духовную опустошенность дворянского «образованного» общества
и утверждая нравственное превосходство народа над развращенными праздностью
господами, Толстой шел по пути, проложенному Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем,
Герценом, Тургеневым, Григоровичем. Но, продолжая их демократические традиции,
автор трилогии в то же время проявил себя глубоко самобытным художником,
смелым новатором в области самого метода типизации явлений действительности и,
прежде всего, человеческих судеб и характеров.
Образ
центрального героя трилогии Николеньки Иртеньева не
случайно был задумай и создан Толстым как образ только
формирующегося человека.
Ставя
задачу проследить в этом образе самый процесс формирования человеческой
личности, Толстой стремится постичь и раскрыть внутренний мир человека в его
непрерывном движении и изменении, в его сложном и противоречивом
взаимодействии с внешним миром — обществом, семьей, природой. В воздействии
внешнего мира на человека, а не в его субъективных стремлениях и желаниях,
ищет и находит Толстой движущую пружину человеческих чувств, мыслей,
поступков. Так, не страстное желание Николеньки затравить поджидаемого зайца,
а овладевшие вниманием мальчика муравьи и бабочки предопределяют плачевный для
него и счастливый для зайца исход этой сцены («Детство» — гл. «Охота»). Не чувство стыда за полученную единицу и за другие детские
проступки, совершенные в этот день, а возбуждающая обстановка детского бала
руководит поведением Николеньки на балу, с которого Сен-Жером
и отправляет его в пыльный чулан с угрозой высечь («Отрочество» — главы:
«Единица», «Ключик», «Затмение»),
Как говорилось
выше, все возвышенные юношеские мечты Николеньки о деятельной и нравственной
жизни разбиваются о привычные условия праздного светского существования. Таким
путем в образе Николеньки, соответственно каждой из эпох его жизни,
раскрывается сложная диалектика человеческой души — то очень сложное и часто
противоречивое взаимоотношение, которое существует между внешним поведением
человека н его намерениями,
мыслями, чувствами.
Одним из
основных средств художественной типизации выступает в трилогии глубокий анализ
тончайших оттенков самого течения человеческих мыслей и чувств.
Разлагая
психический процесс на его мельчайшие составные части и рассматривая каждую из
них под микроскопом своего художественного зрения, Толстой тем самым достигает
поразительной конкретности, пластичности, материальной ощутимости созданных им
образов. На этом принципе строятся в трилогии и замечательные пейзажные
изображения. Явления природы даются в них преломленными
сквозь призму тех чувств, мыслей и переживаний, которые возникают у человека в
общении с природой.
Стремясь
передать явления внешнего мира во всех тех «подробностях чувств», которые они
рождают у человека, Толстой часто строит словесный образ не на предметных
качествах и связях изображаемых явлений, а на ассоциативных связях, вызываемых
ими представлениях. Так, в день получения Николенькой роковой единицы
ненавистный ему педант-учитель появляется в «синем застегнутом фраке с учеными
пуговицами»[63].
Забившись в угол брички во время грозы, Николенька видит, как мутные потоки
дождя текут «по фризовой спине»[64] возвышающегося
на козлах Василия. Готовясь к экзаменам, Николенька наблюдал, как «утреннее
солнце... бросало пыльные лучи на пол... невыносимо надоевшей...
классной комнаты». По тому же принципу ассоциативных, а не предметных связей
строится тут же употребленное выражение: «яркое, на всем блестящее, но
не жаркое солнце»[65].
С
наибольшей последовательностью этот принцип выдержан в изображении волнующей
красоты лунной летней ночи и остроты поэтического восприятия ее мечтательным
юношей: «При каждом звуке босых шагов, кашле, вздохе, толчке окошка, шорохе
платья я вскакиваю с постели, воровски прислушиваюсь, приглядываюсь и без
видимой причины прихожу в волнение. Но вот огни исчезают в верхних
окнах, звуки шагов и говора заменяются храпением, караульщик по-ночному начинает стучать в доску, сад стал
и мрачнее и светлее, как скоро исчезли в нем полосы красного света из
окон. Последний огонь из буфета переходит в переднюю, прокладывая полосу
света по росистому саду, и мне видна через окно сгорбленная фигура Фоки,
который в кофточке, со свечой в руках, идет к своей постели»[66].
Ощутимость
этого образа медленно спускающейся на землю летней ночи достигается
психологической верностью и конкретностью отдельных последовательно возникающих
у Николеньки ощущений, замыкающихся видом отходящего ко сну старого
слуги.
Все возрастающий лиризм дальнейшего описания ночного пейзажа
нагнетается возрастающим богатством и яркостью слуховых и зрительных ощущений
Николеньки, отражающих необозримое многообразие и красоту природы: «...вид
старых берез, блестевших с одной стороны на лунном небе своими кудрявыми
ветвями, с другой — мрачно застилавших кусты и дорогу своими черными тенями, и
спокойный, пышный, равномерно, как звук, возраставший блеск пруда, и лунный
блеск капель росы на цветах перед галереей, тоже кладущих поперек серой рабатки свои
грациозные тени, и звук перепела за прудом,, и голос человека с большой дороги,
и тихий, чуть слышный скрип двух старых берез друг о друга, и жужжание комара
над ухом под одеялом, и падение зацепившегося за ветку яблока на сухие листья,
и прыжки лягушек, которые иногда добирались до ступеней террасы и
как-то таинственно блестели на месяце своими зеленоватыми спинками,— все это
получало для меня странный смысл, смысл слишком большой красоты и какого-то
недоконченного счастия»[67].
Все
упомянутые в этом обширном периоде отдельные и. многообразные явления природы
(березы, пруд, капли росы, рабатки цветов, крик перепела, падение яблока,
жужжание комара, прыгающие и блестящие лягушки) объединяются в единый
лирический образ лунной ночи эмоциональным восприятием их Николенькой, его ощущением
слишком большой красоты и какого-то недоконченного счастья жизни. И это
синтезирующее ощущение не произвольно, а по-своему отражает и выражает многогранность
взаимосвязи внутреннего мира человека с окружающей его материальной
действительностью. И основным объектом изображения оказываются в этом образе
не разнородные явления природы, как таковые, а эмоциональное единство и в то же
время многогранность их лирического восприятия Николенькой.
Выражению
сложности, тонкости, текучести этого восприятия и служит своеобразие необычных
словосочетаний, употребляемых Толстым. Они характеризуются абсолютной
точностью прямого логического значения каждого из употребленных слов в
отдельности, и часто неожиданным, уже не логическим, а исключительно эмоциональным
сопоставлением этих прямых значений. Так, например, все слова в выражении «звук
босых ног» употреблены в самом прямом, самом «прозаическом» значении. Но по
своему прямому значению определение «босых» не может относиться к дополнению
«шагов» и требует дополнения «ног». Толстой избегает этого дополнения потому,
что ему важно изобразить совсем не босые шагающие ноги (зрительное
представление), а то впечатление, которое производит на человека, «вслушивающегося
в тишину и звуки», звук шагов босых ног. И как выражение особого
слухового ощущения (слабый, шелестящий звук поступи босых ног) словосочетание
«звук босых шагов» настолько точен, что, в сущности
говоря, не может быть отнесен к числу тропов, несмотря на то, что шаги не могут
быть ни «босыми» ни обутыми.
Точно так же «блеск пруда» не может возрастать как звук, капли
росы не могут излучать лунный блеск, в темноте нельзя видеть, как падает,
цепляясь за ветку, яблоко «а сухие листья, и т. д. Но зрительное ощущение
(«блеск пруда») может ассоциироваться со слуховым («равномерно нарастающий
звук»), а слуховое ощущение (звук падающего яблока) вызывать зрительное представление
невидимого в темноте яблока, ветки, за которую оно цепляется, сухих
листьев, на которые оно падает, и т. д.
Одни и те
же явления внешнего мира порождают у различных людей различные чувства. И,
переживая вместе с Николенькой красоту лунной летней ночи, мы не можем себе
представить, чтобы она вызывала такие же чувства у Володи Иртеньева,
его приятеля Дубкова и им подобных людей «tres comme il faut».
В
мельчайших и тончайших «подробностях чувства», в «тайных процессах психической
жизни», в самой «диалектике души» раскрывает Толстой в трилогии типическое во
всем бесконечном многообразии его индивидуальных проявлений.
При всем
индивидуальном своеобразии каждого из многочисленных образов семейного и
светского окружения Николеньки все они, за исключением образа рано умершей
матери, даны как образы носителей одной и той же общественно-порочной
психологии. Обнажив в этих образах нравственную, а отчасти и экономическую несостоятельность
крепостнического дворянства, Толстой, вместе с тем непосредственно не затрагивает
еще в трилогии вопроса о крепостном праве. Однако идейная проблематика
трилогии, ее критическое содержание были продиктованы именно этой важнейшей
проблемой русской жизни 40—50-х гг.
Одновременно
с трилогией писатель работал над широко задуманным «Романом русского
помещика». Как в сюжетном, так и в идейном плане «Роман» непосредственно
примыкает к трилогии. Согласно первому плану «Четырех эпох развития» (1851 г.)
«Молодость» Толстой предполагал кончить тем, чем начал потом «Роман русского
помещика»: «В молодости я пристращаюсь к хозяйству, и папа после многих
переговоров дает мне в управление имение maman»[68].
Во втором плане (июнь 1852 г.) намеченное для «Юности» отнесено к «Отрочеству»,
а то, что намечалось прежде для «Молодости», отодвинуто к «Юности», в плане
которой читаем: «...я еду в деревню, восторженные планы...»[69]
Во второй
редакции «Детства» в главе «Что за человек
был мой отец» также встречаем мысли, прямо ведущие к
«Роману русского помещика».
«Только тот,— сказано здесь,— кто не
живал хозяином в
деревне, может не знать, сколько неприятностей могут наделать ему соседи
своим сутяжничеством и ссорами, помещики одного с ним
уезда — своими языками, и власти — прижимками и придирками; может не знать,
сколько они ему испортят крови, и как отравят все счастье его жизни». В
качестве одного из возможных путей к тому, «чтобы избавиться от всех этих
гонений, которым неизбежно подвергается каждый помещик», а именно: «клеветы и
злобы» соседей, «беззаконий и низостей губернской жизни», предлагается
«законно, в отношении всех, исполнять обязанности и пользоваться правами
помещика». Но, говорится тут же, «этот способ, хотя самый
простой и первый, представляющийся рассудку, к несчастью до сих пор остается на
степени умозрения, потому
что невозможно действовать
законно с людьми, употребляющими закон,
как средство безнаказанного безакония»[70].
Художественному разрешению жизненно
неразрешимой задачи «законного»
исполнения обязанностей помещика и «законного» же пользования помещичьими
правами и был посвящен первоначальный замысел «Романа русского помещика». Его возникновение и
сложная эволюция неразрывно связаны с
жизненными исканиями Толстого конца 40-х—начала 50-х гг.
Выше уже
говорилось о том, что Толстой оставил в 1847 г. Казанский университет и
вернулся в Ясную Поляну, Движимый желанием найти в пределах своего
наследственного имения практические пути" преодоления кризиса
помещичьего и крестьянского крепостного хозяйства. Еще примерно
за год до того Толстой из той же Ясной Поляны, где
проводил летние каникулы, писал брату Николаю о намерении написать «книги»:
«Что нужно для блага России и очерк русских нравов» и «Примечания насчет
хозяйства»[71].
Очевидно
в этих сочинениях Толстой намеревался изложить свою программу борьбы с
крепостническим злом, ту самую программу, которую он вслед за тем пытался
претворить в жизнь в Ясной
Поляне.
Попытка не
увенчалась успехом. Все сельскохозяйственные
нововведения и мероприятия Толстого привели Ясную Поляну в состояние еще
большего упадка.
Пережив в
связи с этим горькое разочарование и не
найдя себе применения ни на каком другом поприще дворянско-поместной жизни,
Толстой, обремененный долгами, снова бросает Ясную Поляну «на произвол грубых
старост» и в мае 1851 г. уезжает на Кавказ. Отъезд этот был бегством от самого
себя, бегством «от долгов и, главное, привычек»[72].
Пребывание
на Кавказе было для Толстого явление временным и вынужденным. Очутившись
здесь, он чувствовал себя полным неудачником и мучился этим. В размышлениях
того времени о своей неудачливости провал яснополянских хозяйственных
начинаний стоит на первом месте: «Меня преследует удивительная неудача всюду и
всегда, - пишет он 28 декабря 1851 г. Т.А. Ергольской. - Стоит
припомнить разочарования мои в хозяйстве (подчеркнуто Толстым), начатые
экзамены, которых я не мог закончить, постоянное несчастье в игре и все
неудавшиеся планы»[73].
В дневниковой записи от 3 июля 1851 г., где Толстой, анализируя причины своих
неудач, объясняет их невозможностью достичь в чем бы то ни было «совершенства»,
не «усовершенствовав» предварительно самого себя, говорится: «То же,
что было со мной в хозяйстве, в ученьи, в литературе,
в жизни. В хозяйстве я хотел достигнуть совершенства, и забывал, что прежде
нужно было исправить несовершенства, которых слишком много, хотел правильного
разделения полей, когда мне нечем было их удабривать
и сеять»[74].
К концу
первого года пребывания на Кавказе, успев за это время уже разочароваться и в
военной службе, на которую только что вступил, Толстой все чаще и чаще
обращается мыслью к Ясной Поляне, мечтает, о возвращении к деревенской жизни и
деятельности.
Можно
предположить, что большое влияние на эти размышления и на непосредственно
связанный с ними замысел «Романа русского помещика» оказало знакомство
Толстого с жизнью русских земледельческих поселений на Кавказе, как известно,
не знавших крепостной зависимости. Об этом свидетельствует запись в дневнике,
сделанная Толстым в станице Орешевке 21 апреля 1852
г.: «Будь у меня деньги, купил бы здесь именье, и уверен, что сумел бы — «не
так, как в России — хозяйничать выгодно»[75].
Круг мыслей Толстого, отраженных в этом лаконическом замечании и упирающихся в конечном счете в проблему влияния крепостного права
на помещичье и крестьянское хозяйство, комментируется другой дневниковой
записью, сделанной 22 апреля, т. е. на другой день, в Шандровской
пристани: «В большой Орешевке
говорил с умным мужиком.— Они довольны своим житьем, но недовольны армянским владычеством.
После обеда и отдыха ходил стрелять и думал о рабстве. На свободе подумаю
хорошенько — выйдет ли брошюрка из моих мыслей об этом предмете»[76].
Очевидно, в
процессе дальнейших размышлений Толстого о крепостных отношениях замысел
«брошюрки» «о рабстве» вылился в широкий, более емкий для решения всего
комплекса волновавших Толстого вопросов, художественный замысел «Романа
русского помещика», первое и глухое упоминание о котором датируется 10 мая того
же года. Замысел «брошюры о рабстве», в свою очередь, является, очевидно, новым
вариантом задуманных еще в 1846
г. «книг»: «Что нужно для блага России и очерк русских нравов» и «Примечания на
счет хозяйства».
Такова
сложная и длинная предистория замысла «Романа
русского помещика», восходящая еще к 1846 г. и заставляющая видеть в нем
замысел, предшествующий «Четырем эпохам жизни».
В
противоположность автобиографическому характеру трилогии, «Роман русского
помещика» был задуман Толстым, как произведение программное, посвященное
изображению не столько того, что было, сколько того, что должно быть, и тем
самым открывающее новые и, как казалось Толстому, действенные пути к
оздоровлению «деревенского», одновременно и крестьянского и помещичьего, быта.
Очевидно, программную установку романа и разумел Толстой, именуя его «догматическим в отличие от автобиографического и
критического характера «Четырех эпох жизни». (Дневник, 30 ноября 1852г.)[77]
Толстой
придавал своему роману исключительное значение. «Решительно совестно мне
заниматься такими глупостями, как мои рассказы, когда у меня начата такая
чудная вещь, как роман Помещика. Зачем деньги, дурацкая
литературная известность. Лучше с убеждением и увлечением писать хорошую и
полезную вену». За такой работой никогда не устанешь. А когда кончу — только
была бы жизнь и добродетель — дело найдется». (Дневник, 11 декабря 1852 г.)[78]
В дневниках
1852—1853 гг. мысли о романе все время перемежаются с размышлениями о
перспективах своей будущей, исполненной труда и добродетели, деревенской,
помещичьей жизни. Так, под 28 октября 1852 г. читаем: «Еще 3 года службы. Надо
употребить их с пользой. Приучить себя к труду. Написать что-нибудь хорошее и
приготовиться, т. е. составить правила для жизни в деревне»[79].
В черновике письма к брату Сергею, в ответ на его предложение купить сообща в
каком-нибудь городе дом и поселиться в нем вместе, Толстой пишет; «...ты не
хочешь жить в деревне. Я же только и мечтаю о том, как бы снова начать ту
жизнь, которой я начал жить в деревне; только без самоуверенности, тщеславия и
необдуманности, которые тогда разрушали все мои хорошие, добрые предприятия.
Смейся и не верь мне, но я говорю, что чувствую; ежели
бы у меня не было имения и обязанностей в отношении его, исполнение которых, я
уверен, составит мое счастье, я бы не мог себе представить жизни лучше той,
которую ты предлагаешь...»[80]
Сопоставляя
эти строки с «письмом» Нехлюдова к «тетушке», мы убеждаемся в том, что это
«письмо» отражало жизненную позицию Толстого не только 1847 г., но и 1852—1853
гг., когда и было написано. Характерно, что неудачу своей реформаторской
хозяйственной деятельности в Ясной Поляне в конце 40-х гг. Толстой в 1852 г.
объясняет не нереальностью своих планов, а лишь неумением осуществить их и, при
первой возможности, собирается вернуться к ним и посвятить им всю дальнейшую
жизнь. «Роман русского помещика» и должен был стать программой этой будущей
жизни.
В ходе
работы над романом, в процессе поисков художественного решения важнейших
проблем как личного, так и общественного характера, у Толстого иногда
возникает желание приступить немедленно к их жизненному, практическому
разрешению. Фиксируя 27 декабря 1852 г. в дневнике проделанную за день
литературную работу, в том числе и над «Романом», Толстой в заключение пишет:
«Я не могу не работать. Слава богу; но литература пустяки; и мне хотелось бы
писать здесь устав и план хозяйства»[81].
Определяя идейные установки первоначального замысла «Романа
русского помещика», обычно ссылаются на дневниковую запись Толстого от 3
августа 1852 г.: «В романе своем я изложу зло правления русского, и ежели найду
его удовлетворительным, то посвящу остальную жизнь на составление плана
аристократического, избирательного, соединенного с монархическим, правления,
на основании существующих выборов. Вот цель для добродетельной жизни»[82].
Не следует, однако, придавать этой записи большого принципиального
значения. Очевидно она далеко не выражает всей
сложности волновавшего Толстого замысла и касается одной только из его возможных
тенденций, внезапно представившейся Толстому под впечатлением чтения диалога
Платона «Политик», о котором Толстой говорит тут же. Но сама по себе мысль,
выраженная в этой записи, очень характерна. Смягчение крепостнического «зла»
представлялось тогда Толстому делом дворянского самоуправления, обязанного
печься не только о благе «господ», но и их «подданных».
Первой продуманной формулировкой замысла «помещичьего романа» следует считать дневниковую запись от 19 октября того же 1852 г.: «Основания романа русского помещика: герой ищет осуществления идеала счастия и справедливости в деревенском быту. Не находя его, он, разочарованный, хочет искать его в семейном. Друг его, она, наводит его на мысль, что счастие состоит не в идеале, а в постоянном, жизненном труде, имеющем целью — счастие — других». «Мысль романа счастлива,— говорится выше,— он может быть не совершенство, но он всегда будет полезной и доброй книгой»[83]. Очень близко к только что приведенной записи определяются задачи романа и в «Предисловии не для читателя, а для автора», написанном 22 декабря 1853 г.: «Главное основное чувство, которое будет руководить меня во всем этом романе,— любовь к деревенской помещичьей жизни.— Сцены столичные, губернские и кавказские все должны быть проникнуты этим чувством — тоской по этой жизни. Но прелесть деревенской жизни, которую я хочу описать, состоит не в спокойствии, не в идиллических красотах, но в прямой цели, которую она представляет, — посвятить жизнь свою добру, — и в простоте, ясности ее.
Главная мысль
сочинения: счастие есть добродетель»[84].
Из этих
слов явствует, что проблема крепостных отношений между крестьянином и
помещиком была для Толстого проблемой морального характера, проблемой личной
совести и личного «счастия» помещика. Но существенно
то, что необходимым условием этого «счастия» Толстой
выдвигал не что иное, как материальное и моральное благополучие зависимых от
помещика крестьян.
Как
говорилось выше, Толстой не понимал тогда классовой противоположности интересов
помещиков и крестьян. Более того: он видел в них социальные силы, не только
неразрывно связанные между собой, но и опирающиеся одна на другую, взаимно
поддерживающие друг друга.
Не
приходится говорить об иллюзорности и реакционности подобного представления.
Это очевидно само по себе. Но необходимо дать себе отчет в том, что объективно
оно отражало, какие явления действительной жизни легли в его основу. Ответ на
этот вопрос дают главы «Романа русского помещика», посвященные взаимоотношениям
Нехлюдова с Шкаликом. Именно в этих главах, не
вошедших в «Утро помещика», раскрывается с наибольшей отчетливостью
объективное, жизненное содержание первоначального замысла «Романа русского
помещика».
В лице Алешки Шкалика Толстой, едва ли не первый в русской
литературе, дал образ нарождающегося кулака. Констатируя, что «к несчастью
Алешки, Липатки и Куприяшки
изобилуют не в одном N уезде, а их по всей Руси много найдется»[85],—
Толстой рисует Шкалика носителем новых форм эксплуатации крестьянской массы,
эксплуатации, отличной от помещичьего насилия, но не менее тягостной для
народа. В Алешках и Куприяшках, выходцах из
крестьянской среды, Толстой видит какое-то противоестественное явление:
«...досадно то, что они все носят на себе самый чистый русский характер, в
котором привык видеть много доброго и родного»[86],—
говорит он в связи с этим. Несмотря на «русский характер» Алешек и Куприяшек, Толстой, не колеблясь, относит этот тип
нарождающегося кулака к числу паразитов деревенской жизни.
Видя в
нарождающемся кулаке неизбежное зло деревенской жизни, Толстой возлагает
обязанность по ограничению этого зла на помещика: «Алешки и Куприяшки,
не в том, так в другом виде всегда будут существовать, но разве не от
помещиков зависит ограничить круг их преступной деятельности?»[87]
В доказательство этой авторской мысли Нехлюдов и вступается за обиженных
Шкаликом крестьян и начинает с ним тяжбу. Нехлюдов чувствует наивность и даже
«глупость» своей попытки усовестить такого прожженного плута, как Шкалик. Воспоминание
об инсценировке примирения, которую разыграли перед ним и по его приказу
Шкалик и обиженный им Игнат Болхин, о поцелуе,
которым он заставил обменяться этих ненавистных друг другу мужиков, вгоняет
Нехлюдова в краску. Но это не может заставить его отказаться от роли
заступника попранных Шкаликом крестьянских интересов, потому что этот вопрос
имеет для Нехлюдова, как и для самого Толстого, первостепенное принципиальное
значение. «Главное то...— он меня одурачил»,— думает Нехлюдов о Шкалике,
нагло отказавшемся выполнить принятые им условия «примирения» с Игнатом Болхипым. «Я могу за это сердиться, могу
желать отметить ему, потом могу смеяться над собой и. своим сердцем, могу
забывать и презирать его обиды.., но какое я имею право забывать не свои обиды,
а зло, несчастье, которое он причинил людям, которых я обязан
покровительствовать, обязан, потому что они не имеют средств сами защищаться.
Ежели я оставлю дело это так, то что же обеспечит не
только собственность, по личность, семейство,— самые священные права моих
крестьян? Они не могут защищать их, поэтому обязанность эта лежит на мне...
Да, я не с Шкаликом буду тягаться, а я буду отстаивать
самые священные права своих подданных»[88].
В образе
нарождающегося кулака Алешки Шкалика, в его грубом и наглом насилии над
крестьянами Нехлюдова, в беспомощности всех попыток Нехлюдова защитить своих крестьян от кулацкого насилия с поразительной
конкретностью отражены те социальные сдвиги, которые намечались в жизни предреформенной деревни благодаря проникновению в нее
товарно-денежных отношений. Неся массе крепостного крестьянства
новые формы угнетения и эксплуатации, Шкалик и все подобные ему Алешки и. Куприяшки представляли собой нарождающуюся социальную
силу, фактически уже не подвластную помещику и тем самым подрывавшую его
экономическое и юридическое господство в «сфере деревенских отношений». Таково
конкретно историческое содержание образа Шкалика и объективный смысл его
взаимоотношений с крестьянами Нехлюдова и с ним самим.
Образ
Шкалика имеет первостепенное значение дли понимания
исторических истоков творчества и мировоззрения Толстого.
Разлагающее
влияние товарно-денежных отношений на патриархальный быт крепостной деревни,
порождавшее одновременно с разорением крестьянских масс и экономическое
оскудение поместного дворянства, до некоторой степени затушевывало основной
классовый антагонизм крепостнического общества. Перед лицом нового и как бы
общего для крестьян и помещиков врага, образом которого и явился Шкалик, у
Толстого и произошел стык между патриархально дворянскими, антибуржуазными
устремлениями его личной мысли с патриархально же крестьянским протестом против
кулацкого насилия. И если Толстой субъективно искал в крестьянском протесте
поддержки своей приверженности к дворянской старине, то объективно он исходил
в оценке действительности прежде всего из условий
существования и воззрений крепостного крестьянства. Наглядным примером служит
сложная идейная эволюция замысла его программного «помещичьего романа».
Что
касается первоначального замысла романа, охарактеризованного выше, то по своим
программным установкам он имеет очень много общего с гоголевским идеалом разумного
и деятельного помещика, воплощенным в образе Костанжогло. То обстоятельство,
что 2-я часть «Мертвых душ» появилась в печати только в 1855 г., ни в какой
мере не противоречит этому. В данном случае речь идет не о
влиянии Гоголя на Толстого, которое, впрочем, тоже не исключено, поскольку
Толстой был знаком с «Выбранными местами из переписки с друзьями»,
появившимися в 1847 г.), а об объективной близости их позиций в вопросе о
крепостных отношениях между крестьянином и помещиком. И если Гоголь создавал
образ Костанжогло на закате своего творческого пути, то Толстой, еще только
начиная самостоятельную жизнь, пытался стать идеальным помещиком, подобным
Костанжогло, а когда это не получилось, попытался в лице молодого князя
Нехлюдова создать художественный образ такого помещика. Образы Нехлюдова и
Костанжогло вдохновлены общей для Гоголя и Толстого идейной тенденцией, возлагающей
ответственность за крепостнический разбой не на самый факт
крепостнической зависимости и эксплуатации, а на «дурных» помещиков. Однако при
несомненной идейной близости с воззрениями автора 2-й части «Мертвых душ»
позиция Толстого далеко 'Не тождественна позиции Гоголя—Костанжогло. Толстой
стоит как бы между трезвым хозяином Костанжогло и Тентетниковым
— энтузиастом не только материальной, но и моральной, просветительской опеки
помещика над крестьянином, энтузиастом просветительских «новшеств», сурово
осужденных Гоголем устами Костанжогло и самым образом Тентетникова.
В образе этого прекраснодушного и опустившегося неудачника, хотя и с иным
значением, дана уже проблематика «Утра помещика» и намечены многие
отличительные черты образа Нехлюдова. Но Нехлюдов, как он был задуман в
«Романе русского помещика», ближе к Костанжогло, чем к Тентетникову.
По ходу
работы Толстого над романом его идейный, и тематический план постепенно
перемещался с вопросов помещичьей жизни па вопросы жизни крестьянской. Задуманный
как роман «помещичьей жизни», он остался Неосуществленным. Но
та часть его, которая вылилась из «Утро помещика», оказалась «романом» уже не
столько помещичьей, сколько крестьянской жизни, страшной, беспросветной жизни
крепостной деревни, остающейся таковой,
несмотря на все благие начинания
«добродетельного» барина, жаждущего осчастливить своих «подданных».
Таким
образом, как тема, так и идейное содержание «Утра помещика» явились отрицанием
первоначального замысла «Романа русского помещика» и безжалостно разоблачали
несостоятельность наивной веры Толстого— Нехлюдова в
«доброго» помещика.
В
кардинальной перестройке идейного замысла «Романа русского помещика» безусловно проявился сдвиг, происшедший в воззрениях
Толстого под непосредственным впечатлением тяжелых и противоречивых событий
Крымской войны. Война открыла Толстому глаза на накаленную ненависть
крестьянских масс к крепостническим порядкам, готовую
вот-вот вылиться наружу. Это открытие убедило Толстого в необходимости срочно
освободить от крепостной зависимости своих яснополянских крестьян, о чем он
впервые и со всей определенностью говорит в дневниковой записи от 8 июля 1855
г.: «Мне нужно собирать деньги, 1) чтоб заплатить долги, 2) чтоб выкупить
имение и иметь возможность отпустить на волю крестьян»[89].
Придя в
Севастополе к мысли о необходимости отмены. крепостного права, Толстой был вынужден тут же, в Севастополе,
отказаться от прежних, по сути дела, крепостнических установок своего
«помещичьего» романа, «Сегодня,— пишет он в дневнике от 2 августа того же года,
- разговаривая с Столыпиным о рабстве в России, мне еще ясней, чем прежде,
пришла мысль, сделать мои 4 эпохи истории русского помещика, и сам я буду этим
героем в Хабаровке. Главная мысль романа должна быть
невозможность жизни правильной помещика образованного нашего века с рабством.
Все нищеты его должны быть выставлены и средства исправить
указаны»[90].
Впервые
появляющееся в этой записи название «4 эпохи развития русского помещика»
говорит о слиянии в сознании Толстого его двух центральных творческих замыслов
этого времени: замысла автобиографического романа «4 эпохи жизни» и
замысла программного прежде, «догматического» «Романа русского помещика». В
результате уже написанные к тому времени вступительные главы романа в силу их
также автобиографического характера превращались в четвертую часть «4-х эпох
жизни». В то же время и «4 эпохи жизни», неполно осуществленные в трилогии,
осмысливались уже как «4 эпохи развития русского помещика».
Непосредственно
примыкая к «Юности», «Утро помещика» явилось художественным отражением самого
важного из того, что пережил Толстой со времени ухода из университета и до
отъезда на Кавказ. Характерно, что появляющееся в «Утре помещика» новое
наименование имения Нехлюдова — Хабаровка (вместо
Красных гор в первоначальной редакции) повторяет название имения матери Иртеньевых в «Детстве» (главы «Папа» и др.). С другой
стороны, сам Нехлюдов, явно по аналогии с Николенькой Иртеньевым,
именуется в первой редакции «Романа русского помещика» не Митей, а Николенькой.
И это до некоторой степени свидетельствует о том, что предпосылки к объединению
столь резко противостоящих друг другу художественных замыслов Толстого имелись
с самого начала.
Следует
отметить, что последняя, приведенная выше формулировка когда-то столь обширного
замысла «Романа русского помещика» воплотилась в «Утре помещика» только в
своей негативной части. Показав все «нищеты» крепостной
деревни и тщетность благих намерений «образованного» помещика, Толстой так и
не смог реализовать положительную программу даже и в тех рамках, в каких она
намечалась записью от 2 августа 1855 г. Вопрос о конкретных путях и
средствах «исправления» пагубного влияния крепостничества на деревенскую
жизнь — основной вопрос, занимавший Толстого на всем протяжении его
четырехлетней работы над «Романом русского помещика», — остался
открытым и в «Утре помещика».
Рассмотренная
выше эволюция замысла «Романа русского помещика» касалась одних только его
идейных устремлений. Получив достаточно широкое отражение в высказываниях
Толстого (главным образом в дневниках и письмах), она почти никак не
отразилась на тематическом составе различных редакций немногих написанных
глав романа. Их окончательная отработка в 1856 г. для печати, когда они
появились под новым заглавием «Утро помещика», свелась в основном к изъятию
ряда глав и к стилистической правке. Ничего принципиально нового Толстой в «Утре
помещика» не прибавил. Обстоятельство это весьма примечательно.
Согласно
обширному первоначальному замыслу романа в его первых главах излагались на
автобиографической основе те ошибки и заблуждения героя, которые помешали ему
осуществить все его «добрые, хорошие начинания» по отношению к своим
крепостным. Что же касается всей остальной, главной, так и не написанной части
романа, то она мыслилась Толстым как «догматическая» надстройка над этими
автобиографическими главами и должна была быть посвящена доказательству
необходимости и эффективности попечительных забот помещика о своих «подданных».
Но образное воплощение этой «догматики», столь близкой к идейной тенденции 2-й
части «Мертвых душ» и столь иллюзорной перед лицом крепостной действительности,
очевидно никак не давалось Толстому. Во всяком случае, ни в одном из черновых
набросков к роману не сохранилось никаких следов хотя бы даже попыток ее
художественной конкретизации. Из всего задуманного писателем жизненно, а тем
самым и художественно реальным оказалась только та негативная и
автобиографическая часть романа, в противопоставлении которой и должна была
развиваться его положительная «догматическая» тенденция. Вот почему «Утро
помещика», как произведение, отрицающее эту первоначальную идейную тенденцию
романа, в то же время явилось изданием его первых, негативных глав.
Взятые сами
по себе, эти главы представляют реалистическое изображение беспросветной жизни
крепостной деревни и тем самым примыкают к реалистическим традициям
гоголевской школы 40-х гг. Но только примыкают, намечая в то же время
совершенно новые и глубоко отличные от этой школы принципы типизации.
Влияние на
«Роман русского помещика» идейных и стилистических традиций писателей
гоголевского «отрицательного» направления уже отмечалось. Этому вопросу посвящена
содержательная работа Н. К. Гудзия «От «Романа русского помещика» к «Утру
помещика»[91]. Но вопроса
о том, что нового было внесено Толстым в эти традиции, автор статьи не
затрагивает.
В первой
редакции «Романа русского помещика» мир деревенских крепостнических отношений
отчетливо распадается, так же, как и в произведениях Григоровича, Тургенева и
др., на две полярные сферы — господской и крестьянской жизни. Соответственно
этому повествование ведется в двух резко противостоящих друг другу тональностях
— вдумчивого лиризма, с которым описываются типы крестьян, их быт, и
иронической, часто переходящей в сатиру при изображении эксплуататорских слоев
крепостнического общества.
В
иронических тонах последовательно выражена характеристика помещика Михайлова,
который «ходил, стоял, крестился и кланялся очень прилично, даже слишком
прилично, так что именно это обстоятельство не располагало в его пользу»[92];
супруги Михайлова, «смазливой и нарядной барыньки», «у
которой ее собственный ребенок оставался дома на руках кормилицы» и которая в
силу этого «не принимала в соображенье, что у крестьянских женщин не бывает
кормилиц и что они кормят своих детей и на работе и в церкви», и «очень мило
морщилась, когда грудные младенцы кричали около неё»[93];
«дворника с большой дороги» Шкалика, «человека опытного в житейском деле»[94]
и «умнейшего человека», спившегося чиновника Василия Федоровича, который
по слухам «в сердцах одному (семинаристу) палец откусил»[95].
Ирония Толстого в обрисовке всех этих образов направлена на разоблачение
пошлости и низости крепостнической психологии, проникнутой равнодушием и ничем
не оправданным презрением к мужику.
Если вес
эти образы отчетливо восходят к гоголевским методам сатирического изображения
носителей крепостнической «пошлости», то в обрисовке крестьянских типов и в
описаниях крестьянской жизни столь же отчетливо намечается в «Романе русского
помещика» и в «Утре помещика» индивидуальное своеобразие творческого метода
писателя.
Первая
редакция романа открывается лирическим описанием праздничного деревенского
утра: «С 7 часов утра на ветхой колокольне Николо-Кочаковского
прихода гудел большой колокол. С 7 часов утра по проселочным
пыльным дорогам и свежим тропинкам, вьющимся по долинам и оврагам, между
влажными от росы хлебом и травою, пестрыми, веселыми толпами шел народ из
окрестных деревень. Все больше бабы, дети и старики. Мужику Петровками
и в праздник нельзя дома оставить: телега сломалась, в гумённик
подпорки поставить, плетень заплести, у другого и
навоз недовожен. Земляную работу грех работать, а
около дома, бог простит. Дело мужицкое!»[96].
Здесь уже задана основная тональность, в которой
развертывается в повествовании крестьянская тема, лирическая тональность,
проникнутая уважением не только к жизни мужика, по и к его трудовой и бесхитростной
психологии. В авторскую речь, без ремарок и кавычек,
органически включены обороты, интонации, своеобразный синтаксис крестьянской
речи («земляную работу грех работать, а около дома, бог простит. Дело мужицкое!»). И эта речь, столь широко имитируемая в
деревенских произведениях писателей 40-х гг., несет здесь совершенно иную
функцию. Толстой прибегает к ней не для создания внешнего колорита, а для
выражения трудового ритма крестьянской жизни, ощутимости трудовой обстановки
деревенского быта. Этим подчеркивается исключительность и торжественность
праздничного дня в деревне, дня отдыха от тяжелого труда и в то же время
невозможность до конца предаться этому отдыху. Подобный метод изображения крестьянской
жизни с точки зрения как бы самого крестьянского сознания остается неизменным
па всем протяжении повествования. Углубляя и расширяя его, писатель следует ему
и в других своих произведениях 50-х гг.
Новаторство
Толстого наглядно раскрывается в сопоставлении только что приведенного
описания праздничного деревенского утра с аналогичным по теме описанием в
повести Григоровича «Деревня»: «Только что раздались первые удары благовеста,
во всех концах улицы загремели щеколды, заскрипели ворота и прикалитки, и жители забегали, засуетились. Кто выходит из
дома и, крестясь, остановился посреди улицы, на лужочке,
против бадьи с намерением выждать жену или свата; кто прямо шел к околице. Из
окон беспрестанно зачали высовываться головы, «Эй, тетка Феклуха!
Погоди маленько! Пойдем вместе: дай управиться — куда-те несет!..» или «Кума, а
кума! Авдотья, а Авдотья!
выжди у коноплей... ишь только заблаговестили». Бабы,
которые позажиточнее, в высоких «кичках», обшитых
блестками и позументом с низаными подзатыльниками, в
пестрых котах и ярких исподницах, или, кто победнее, попросту повязав голову
писанным алым платком, врозь концы, да натянув на плечи мужнин серый жупан,
потянулись вдоль усадьбы, блистая на солнце, как раззолоченные пряники и коврики.
Мерно и плавно выступали за ними мужья и парни. Толпы девчонок и мальчишек
неслись как стая воробьев, то сбиваясь в кучку, то
снова разбиваясь врассыпную, оглушая всю улицу своим визгом и криком. Пестрая
ватага из женщин, мужиков и ребят тянулась за околицу движущеюся узорчатою
каймою, огибала поле ржи, исчезала потом за косогором, пропадала вовсе, и уже
спусти не малое время, появлялась, как сверкающее пятно на белевшей вдалеке
церковной паперти»[97].
Это не более как жанровая сценка, нарисованная сторонним, «образованным»
наблюдателем крестьянской жизни. Последняя предстоит в этом описании только со
своей внешней стороны, внешнего этнографического колорита, достигаемого рядом
натуралистических деталей (суетня жителей, пестрота и
живописность праздничных нарядов, перекличка баб, визг и крик ребятишек).
Перед Толстым стоят другие задачи. Он стремится проникнуть в душу крестьянина,
показать его нравственное превосходство над хозяевами крепостной деревни. Этой
цели и служит прежде всего проникновенный лиризм описаний
крестьянских сцен, с одной стороны, и явно сатирический характер изображения
помещичьей четы и особенно пособника Шкалика и спившегося до потери
человеческого облика чиновника, «умнейшего человека».
Сатирическое изображение отрицательных явлении действительности и
лирическое выражение авторских положительных идеалов — одна из характернейших черт творческого метода Гоголя, которой
Толстой непосредственно и следует в первоначальных редакциях своего
«помещичьего романа».
Однако в
«Утро помещика» главы о Шкалике и «умнейшем человеке», равно как и первая
глава («Обедня»), не вошли. Таким образом, весь сатирический элемент, столь
явный и сильный в первой редакции, из окончательного текста был устранен. Для
того, чтобы понять причины этого, необходимо обратиться
к истории создания рассказа «Набег» — первого кавказского военного рассказа
Толстого, упорно обдумывавшегося и писавшегося им одновременно с «Романом
русского помещика» (май—декабрь 1852 г.).
Несомненно,
что в самом замысле этого рассказа, задуманного как сатирическая картина
кавказских военных нравов, Толстой опять-таки следовал традициям «отрицательного»
направления передовой литературы 40-х гг. Черновые наброски «Письма с Кавказа»
(первоначальное заглавие рассказа) достаточно красноречиво свидетельствуют об
этом.
Обличительная
сатира этих набросков направлена против высшего светского офицерства, которому
противостоит безыменный армейский капитан (в «Набеге» — Хлопов) —
представитель демократического офицерства. Таким образом, и здесь, как и в
одновременно писавшихся первых главах «Романа русского помещика», Толстой в
изображении положительных и отрицательных, с его точки зрения, явлений
действительности прибегает к контрастной манере повествования, оставляя все
сатирические краски дли изображения правящей верхушки
описываемой среды.
Сатирические
зарисовки, разоблачающие профессиональное и нравственное ничтожество высшего
офицерства, звучат здесь еще более резко, чем сатирические интонации в «Романе
русского помещика». Например: «В свите генерала было очень много офицеров...—
человек 30.— Все они, судя по названию должностей, которые они занимали, и
которые очень может быть, что я переврал — я не военный — были люди очень нужные. — Никто не сомневался в этом, один спорщик
Капитан уверял, что все это шелыганы, которые только
другим мешают, а сами ничего не делают... и получают лучшие награды». Или:
«Генерал, Полковник и Полковница были люди такого высокого света, что они имели
полное право смотреть на всех здешних офицеров, как па
что-то составляющее середину между людьми и машинами, и их высокое положение
в свете заметно уже было по одному их взгляду, по их, хотя военным, но
совершенно английским одеждам, про который г-да
офицеры говорили: «О! как он посмотрит!» По Капитан говорил, что у Генерала был не только не
величественный, а какой-то глупый и пьяный взгляд, и что Русскому Генералу и
Полковнику прилично быть похожим на Русских солдат, а не на Английских
охотников»[98].
Сопоставление
этих набросков к «Письму с Кавказа» с сатирическими зарисовками в первой
редакции «Романа русского помещика» свидетельствует о некотором идейном и
стилистическом единстве этих замыслов, одинаково восходящих к идейным и
стилистическим традициям гоголевской школы. Вспомним к тому же, что «русский
помещичий роман» должен был содержать, наряду с изображениями деревенской
жизни, также «сцены столичные, губернские и кавказские» (см. «Предисловие но для читателя, а для автора»). Одна из таких
кавказских сцеп намечается в одном из вариантов первой редакции романа в
иронической характеристике «хорошего офицера», капитана Белоногова, во многом
близкой к сатирическим наброскам «Письма с Кавказа»: «Белоногов любит царя и
Россию, но странным образом: он без слез не может говорить о царском смотре и
юбилее Михаила Павловича в Исакьевском соборе, но
солдат и мужик в его глазах скот, презренное создание. Он честен, не затаит
чужих денег, не будет унижаться ни перед кем, но брать с казны все, что может,
и сносить всякого рода оскорбления от старшего он
считает своей обязанностью»,., и т. д.[99]
Так или
иначе, но, задумав «Письмо с Кавказа» по выработанному отрицательным
направлением образцу сатирической картины нравов, Толстой стал очень скоро
тяготиться этим замыслом. 7 июля 1852 г. он пишет в дневнике: «Надо торопиться скорее окончить сатиру моего письма с Кавказа, а
то сатира не в моем характере»[100].
Запись от 1 декабря того же года свидетельствует, что к этому времени
«характер» уже взял верх над традицией: «Писал целый день описание войны. Все
сатирическое не нравится мне, а так как все было в сатирическом духе, то все
нужно переделывать»[101],
3 декабря Толстой с удовлетворением отмечает: «Писал много. Кажется, будет
хорошо. И без сатиры. Какое-то внутреннее чувство сильно говорит против сатиры.
Мне даже неприятно описывать дурные стороны целого класса людей, не только
личности»[102].
Взятые сами
по себе, все эти признания могут быть истолкованы как несомненное свидетельство
сознательного сопротивления Толстого передовым обличительным устремлениям
демократической мысли. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что дело было
далеко не так.
Толстой
отказывался вовсе не от самой задачи обличительной типизации общественных
недостатков и пороков, а только от сатирических, обнаженно-прямолинейных
средств и методов обличения. Доказательством служит дальнейшая история
превращения «Письма с Кавказа» в «Набег».
Известно, что в ряде образов этого рассказа Толстой типизировал
некоторые черты своих сослуживцев по кавказской армии: в образе Розенкранца — офицера казачьего линейного полка А. В. Пистолькорса; в образе генерала — командующего левым
флангом кавказской армии князя А. И. Барятинского; в образе прапорщика Аланина — своего тифлисского
соквартиранта, артиллерийского прапорщика Н. И. Буемского,
в образе капитана Хлопова — капитана своей 4-й
батареи Хилковского. И все эти образы, хотя и очищенные от
всякого сатирического элемента, являются образами, развенчивающими психологию
и нравы светской прослойки кавказского офицерства, овеянного в представлении
дворянского обывателя романтическим ореолом героизма, самоотверженности и
мужества.
Таким образом, отказавшись от сатирических приемов изображения, преобладавших в набросках «Письма с Кавказа», Толстой ни в какой мере не отказался в «Набеге» от обличения оторвавшегося от народа светского офицерства, принимающего участие в тяжелом и жестоком деле войны только из мелочных побуждений тщеславия и карьеризма, не имеющих ничего общего с героизмом и храбростью. И Толстой показал это через утверждение в образе капитана Хлопова подлинно-национальных черт русского военного характера. Капитан Хлопов — один из незаметных и не замечающих себя, по истинных героев войны. Из всех изображенных в рассказе офицеров он один является носителем подлинной храбрости. «Вот кто истинно храбр», сказалось мне невольно»[103],— говорит о нем Толстой.
К тем же
результатам пришел Толстой и в работе над «Романом русского помещика». Несмотря
на то, что из окончательного его текста весь сатирический элемент был устранен,
«Утро помещика» осталось произведением, обличающим темноту, нищету и
бесправие крепостной деревни, развенчивающим несостоятельность
либерального помещичьего прекраснодушия перед лицом ее действительных бедствий
и нужд.
Вся
несостоятельность, все барское верхоглядство прекраснодушных намерений и начинании Нехлюдова становится очевидным для него самого и
для читателя в соприкосновении с суровым, трудовым и в силу этого трезвым
мужицким взглядом на вещи.
Возобладавший
в «Утре помещика» метод отрицания и развенчания крепостных устоев деревенской
жизни посредством утверждения нравственного превосходства нал ними их жертвы —
крепостного мужика—отчетливо наметился уже в первой
редакции «Романа русского помещика» параллельно с очень сильной в ней
сатирической тенденцией. И если сатира служила здесь средством прямолинейного
отрицания крепостнической практики и психологии, то художественным средством
прямолинейного же утверждения правды крестьянского сознания служила авторская
сентенция, обильно вкрапленная в повествовательную ткань первой редакции романа.
В главе «Юхванка мудреный» дана история
мачехи Юхванки, опущенная в «Утре помещика». Вслед за
рассказом о самоотверженности, с которой относилась эта простая крепостная
женщина к своему пасынку, следует: «Примерная мачеха», сказали бы в пашем быту, а у крестьян иначе и не бывает»[104].
Вслед за рассказом об усилиях состарившейся мачехи не быть в тягость выкормленному
ею пасынку снова следует авторская сентенция: «Какое примерное
самоотвержение»,— сказали бы в пашем свете, а у
крестьян иначе и не бывает. У них человек ценится по пользе,
которую он приносит, и старый человек, зная, что он уже не зарабатывает своего
пропитания, старается тем больше, чем меньше у него остается сил» чтобы хоть
чем-нибудь заплатить за хлеб, который он ест.
Зато
бездействие, желчность, болезни, скупость и эгоизм старости неизвестны им так
же, как и низкий страх медленно приближающейся смерти — порождение роскоши ч праздности. Тяжелая трудовая дорога их ровна и спокойна,
а смерть есть только желанный конец ее, в котором вера обещает блаженство и
успокоение. Да, труд - великий двигатель человеческой природы; он единственный
источник земного счастия и
добродетели»[105].
В этих
строках, написанных не позднее декабря 1852 г. и звучащих как авторская
декларация, уже намечается основная социально-этическая проблематика всего творчества
Толстого, утверждающая труд основой человеческой жизни, основой счастья и
красоты. Сквозь эти строки явственно проступают мысли и представления, развитые
в рассказе конца 50-х гг. «Три смерти», в «Казаках», в романе 70-х гг. «Анна Каренина», в «Исповеди», в «Смерти
Ивана Ильича» и во многих и многих других произведениях писателя, а также в его
письмах и дневниках.
Строки эти
в «Утро помещика» не
вошли. Толстой избегал прямолинейнего
выражения в
художественных произведениях своей
авторской тенденции. В
дневнике 1853 г. он обосновывает это так: «Читая сочинение, в особенности
чисто литературное, — главный интерес составляет характер автора,
выражающийся в сочинении.— Но бывают и такие
сочинении, в которых автор афектирует свой взгляд или
несколько раз изменяет его. Самые приятные суть те, в которых
автор как будто
бы старается скрыть свой личный
взгляд, и вместе с тем остается постоянно верен ему»[106].
Сказанное объясняет; почему Толстой исключил из «Утра помещика»
все столь обильные в главах «Романа
русского помещика» авторские рассуждения и сентенции, по
форме опять-таки восходящие к
лирическим отступлениям автора
«Мертвых душ». Но
непосредственно выраженные в этих рассуждениях идейные тенденции достаточно
отчетливо проступают и в «Утре помещика».
В первой
редакции пространнее чем в окончательном тексте
раскрыты мотивы, по которым Иван Чурис отказывается
перейти из своей разваливающейся избенки в каменную хоромину, с самодовольством
предлагаемую ему Нехлюдовым: «Невыразимо грустное чувство овладело им, когда
он сел опять на лавку, и в избе водворилось молчание, прерываемое только
хныканьем бабы, удалившейся под палати и утиравшей
слезы рукавом рубахи; он понял, что значит для этих людей разваливающаяся избенка,
обваленный колодезь с лужей, гниющие ветлы перед кривым оконцем, клевушки и сарайчик. Он понял, что какое бы ни было их
гнездо, они не могут не любить его. Пускай вся жизнь их прошла в нем в тяжелом
труде, горе и лишениях; но все-таки это было их гнездо, в нем выражалась вся
50-летняя трудная их деятельность»[107].
В «Утре помещика» Нехлюдову, понявшему все это, становится не только грустно,
но и «чего-то совестно». В приведенных строках разъясняется, чего именно:
своего барского верхоглядства перед значительностью и трагизмом «трудной»
мужицкой жизни.
В главе «Юхванка мудреный» имеется
авторское отступление, написанное в форме обращения к читателю, где Толстой
предупреждает, что в его «книге», в противоположность модным романам из
светской жизни, «о любви нет, да кажется и не будет ни слона, все мужики,
мужики, какие-то сошки, мерена, сальные истории о
том, как баба выкинула, как мужики живут и дерутся»[108].
Это обращение звучит как перифраза слов, сказанных Белинским в статье «Взгляд на русскую литературу
1847 года», в защиту демократических тенденций натуральной школы от нападок на
нее славянофилов и всякого рода других «литературных аристократов». «Что за
охота,— говорит Белинский,— наводнять литературу мужиками?»— восклицают
аристократы известного разряда... Природа — вечный образец искусства, а
величайший и благороднейший предмет в природе — человек. А разве мужик — не
человек? — Но что может быть интересного в грубом, необразованном человеке? — Как что? — его душа, ум, сердце, страсти, склонности,— словом, все
то же, что и в образованном человеке. Положим, последний
выше первого... Конечно, самый пустой светский человек несравненно выше
мужика, по в каком отношении? Только в светском
образовании, и это нисколько не помешает иному мужику быть выше его, например,
со стороны ума, чувства, характера, Образование только развивает нравственные
силы человека, но не дает их; дает их человеку природа»[109].
Несомненно,
что, отстаивая вслед за Белинским свое право на изображение «мужика и опять
мужика», Толстой утверждал принципы реалистического и демократического
искусства.
В
заключение только что приведенных строк Белинский писал: «Чему можно научиться
из книги, в которой описывается какой-нибудь спившийся с кругу горемыка? —
говорят еще эти аристократы средней руки. — Как чему? — разумеется, не
светскому обращению и не хорошему тону, а знанию человека в известном
положении. Один спивается от лености, от дурного воспитания, от слабости
характера, другой — от несчастных обстоятельств жизни, в которых он, может
быть, нисколько не виноват... Конечно, отвернуться с
презрением от человека падшего гораздо легче, нежели протянуть ему руку на
утешение и помощь, так же как осудить его строго, во имя нравственности,
гораздо легче, нежели, с участием и любовию войти в
его положение, исследовать до глубины причину его падения и пожалеть о нем, как
о человеке, даже и тогда, когда он сам окажется много виноватым в своем падении»[110].
В главах
«Утра помещика», повествующих о «падении» человека в таких крепостных мужиках,
как Давыдка Белый и Юхванка
Мудреный, Толстой как бы непосредственно откликается на гуманистическую
декларацию Белинского. О том, насколько глубоко задумывался писатель над
причинами человеческого падения таких мужиков и как в свете этих причин
объяснял и оправдывал лживость Юхвапки, животную
апатию Давыдки Белого, свидетельствуют рассуждения
об этом в первой редакции романа, высказанные частью от автора, частью от лица
Нехлюдова. Безрезультатная беседа с Юхванкой убеждает
Нехлюдова в том, «как мало действительны могут быть
его увещания и угрозы против порока, воспитанного невежеством и поддерживаемого
нищетой»[111].
Пагубное
действие нищеты и бесправия, этих коренных зол крепостной деревни, широко
раскрыто в характеристике Давыдки Белого: «...мужик
смирный, непьющий, неглупый и честный он лучше многих своих товарищей,, которые живут не так бедно, как он. По несчастный в высшей степени лимфатический темперамент или апатический
характер, или проще наследственная непреодолимая лень, сделали его тем, чем он
есть — лодырем, как выражается его мать. И она совершенно права, говоря, что он
и сам этому не рад. Он родился лодырем и век будет
лодырем, ничто не изменит его». Далее вопрос о характере Давыдки
переносится в плоскость сравнительной характеристики различных проявлений
апатического характера в условиях жизни мужицкой и господской: «...родись он
в другой сфере, в которой беспрерывный тяжелый труд не есть существенная
необходимость, кто знает, чем бы он был? Разве мало встречаем мы этих запухших,
вялых, ленивых натур без живости и энергии, которые были, такими же лодырями, родись они в бедности? Но средства к существованию
их обеспечены, временный умственный труд в некоторой степени возможен для них,
и они спокойно погружаются в свою безвыходную апатию, часто даже щеголяя ею, и, неизвестно почему, называя славянскою ленью»[112].
«Но нищета,
труд крестьянина, принужденного работать изо всех сил и беспрестанно, невозможны с таким характером. Он убивает надежду,
увеличивает беспомощность. А беспрестанные брань, побои вселяют равнодушие,
даже отвращение к окружающему. Наконец, что грустнее всего, к бессилию
присоединяется сознание бессилии: и бедность, и побои,
и несчастия делаются обыкновенными необходимыми явлениями жизни, он привыкает
к ним, и не думая о возможности облегчить свою участь, ничего» не желая, ничего
не добиваясь. Давыдку забили. Он знает, что он лодырь, что ему есть нечего. Что-ж, пускай бьют, так и следует, рассуждает он»[113].
О существование подобных мужиков, которых «20 лет били» и которые и от Нехлюдова
«ничего не ожидают кроме побоев», и разбиваются его мечты «видеть их всех
счастливыми».
Изобразив это
крушение Нехлюдова, отражающее крах его собственных реформаторских
начинаний в Ясной Поляне 40-х гг., Толстой, согласно первоначальному замыслу «Романа», хотел в последующих главах
доказать, возможность и эффективность
помещичьей благотворительности.
И видя главное препятствие к пей в «горьком влиянии рабства»,
воспитавшего в мужике непреодолимое недоверие к барину, Толстой в
первой редакции романа остается еще при убеждении, что это
влияние «произошло не от самого положения рабства, а от небрежности, непостоянства и
несправедливости управления»[114].
Иллюзорность подобной точки зрения и обусловила нереальность идейной тенденции
первоначального замысла «Романа русского помещика», в силу этого так и оставшегося незавершенным. Но это ни в какой мере не
снижает критического, глубоко жизненного содержания тех немногих глав, которые
были предпосланы Толстым центральной части его замысла. Именно в критическом и
реалистическом содержании написанных вступительных глав, а не в иллюзорности
первоначального замысла и. обнаруживается
объективная устремленность раннего творчества Толстого. Толстой не просто
продолжал, но и обогащал идейно-художественные традиции гоголевского направления путем
углубления и конкретизации их положительного содержания. Ещё довольно
абстрактный у Гоголя идеал народности,
идеал, как говорил
Белинский, «плодовитого зерна русской жизни», приобретает у Толстого уже
вполне конкретные социальные очертания
крестьянских чаяний и стремлений. Отказавшись от гоголевских методов
сатирического изображения, Толстой одновременно с этим углубляет гоголевский
лиризм. Лирический восторг Гоголя перед мощью и красотой
национальной стихии русской жизни воплощается у Толстого в
реалистических, отображениях положительных идеалов и стремлений самого закрепощенного крестьянства. Таким воплощением является в «Романе» образ
красавца-богатыря Илюшки Волхина
(в «Утре помещика» — Дутлова). «Все
прекрасно» в этом «одном из прекраснейших, лиц», которые «когда-либо удавалось
видеть» автору: «Он среднего роста, но чрезвычайно строен. Правильное лицо его
свежо и здорово; но беззаботное и вместе умное выражение ясных, голубых глаз и
свежего рта, около которого и пушок еще не пробивается, дышит какой-то необыкновенно
приятною русскою прелестью. Может быть бывают фигуры
изящнее Илюшки, но фигуры грациознее и полнее в своем
роде желать нельзя: так хорошо его сотворила русская природа и нарядила
русская жизнь»[115].
Это не романтическая идеализация русского крепостного мужика. Это лирическое
выражение и эстетическое утверждение его жизненных идеалов, стихийных идеалов
тех самых забитых Иванов Чурисов, Юхванок,
Давыдок, которые обрисованы тут же, рядом с Илюшкой, с такой беспощадной реалистической силой.
Характерно,
что красота Илюшки полностью
отвечает определению мужицкого идеала
человеческой красоты, данному Н.
Г. Чернышевским в диссертации «Эстетические отношения искусства к
действительности». «Хорошая жизнь», «жизнь, как она должна быть»,— говорит
Чернышевский,— у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в
хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь»
всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя; да и скучно было
бы». Вследствие этого, говорит Чернышевский дальше, «в
описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты,
который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме,
всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но нечрезмерной работе»[116].
Отраженным выражением жизненных идеалов трудового крестьянства является также
греза Нехлюдова, которой Толстой заключил в первой редакции главы, посвященные
взаимоотношениям Нехлюдова с крестьянами и на которой
обрывается повествование в «Утре помещика». Угнетающие
Нехлюдова «образы» деревенской нищеты и забитости вытесняются под конец из его
«воображения» «радужным образом» «красивой, сильной фигуры Ильюшки»,
разъезжающего на «тройке потных лошадей» по бескрайным просторам русской земли,
бездумно наслаждаютщегося жизнью, засыпающего «под
открытым звездным небом» «здоровым, беззаботным сном сильного, свежего
человека». «И вот видит он во сне города Киев с угодниками и толпами
богомольцев, Ромен с купцами и товарами, видит Одест и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград
с золотыми домами и белогрудыми, чернобровыми турчанками, куда он летит,
поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше
и дальше, и видит внизу золотые города, облитые ярким сияньем, и синее небо с
частыми звездами, и синее море с белыми парусами — и ему сладко и весело
лететь все дальше и дальше... «Славно!» шепчет себе Нехлюдов, и мысль: зачем он
не Илюшка — тоже приходит ему»[117].
В какой-то
мере греза Нехлюдова перекликается с авторской грезой Гоголя, воплощенной в
«Мертвых душах» в символическом образе птицы-тройки. Это
проявляется не только в одинаковой у Гоголя и Толстого все нарастающей
лирической интонации, не только в ряде схожих деталей, частью тождественных
(ширь и бесконечность дороги, движущиеся по ней тройки), частью восходящих к
гоголевской трактовке фольклорных образов («далекое синее море с белыми
парусами», «белогрудые и чернобровые турчанки», «золотые города», «синее небо с
частыми звездами»), не только в символической структуре всего образа в
целом, но и в смысловом и композиционном значении, которое он получает в общей
системе повествования. Как у Гоголя в 1-й части «Мертвых душ», так и у Толстого
в «Утре помещика» глубоко реалистическая картина мрачной крепостной
действительности венчается образом стихийной устремленности русской национальной
жизни в прекрасное будущее. И если у Гоголя символический образ птицы-тройки
носит характер мистического авторского предвидения, то у Толстого он
приобретает уже вполне конкретные очертания в любовании Нехлюдова широтой и
красотой стихийной и вольной жизни и мечтами Илюшки-ямщика,
мужика, временно сбросившего с себя крепостное ярмо.
Так уже в
«Утре помещика», а точнее — уже в «Романе русского помещика», наметилось у
Толстого то принципиально новое, что внесло его творчество в развитие русской
литературы критического реализма. Толстой вдохнул и критические тенденции русского реалистического
искусства истинно национальный, истинно народный, положительный идеал.
«Конечно, — писал Белинский о Гоголе,— преобладающий характер его сочинений —
отрицание; всякое отрицание, чтоб быть живым и поэтическим,
должно делаться во имя идеала — и этот идеал у Гоголя также не свой, то есть не
туземный, как и у всех других русских поэтов, потому что наша общественная
жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла дать литературе этот
идеал»[118]. В
отличие от Гоголя, страстно искавшего, по так и не нашедшего того положительного
содержания русской национальной жизни, которое он так жаждал противопоставить
ее крепостническим мерзостям, Толстой открыл положительное, а тем самым и
прекрасное начало русской жизни в созидательной энергии крестьянских масс, в
их трудовом воззрении па жизнь, т. е. именно в том, что составляло смысл и
ценность жизни для самих крестьян.
Воспитанный
«трудом и лишениями», темный, но отвечающий жестокой действительности взгляд
па жизнь Ивана Чуриса и других хабаровских мужиков
раскрывает Нехлюдову глаза на беспочвенность его либеральных мечтаний. Не
опека «доброго» барина, а относительно свободная от этой опеки жизнь Илюшки-ямщика отвечает жизненным интересам и стремлениям
крепостного крестьянства. Таким образом, как в
изображении крепостной деревни, так и в вопросе о том, что нужно для ее
собственного блага, Толстой черпает критерий оценки в самом крестьянстве.
Новаторство
Толстого в изображении крепостной деревни было с величайшей прозорливостью
вскрыто и охарактеризовано Чернышевским в его отзыве на «Утро помещика»:
«...граф Толстой с замечательным мастерством воспроизводит не только внешнюю
обстановку быта поселян, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи. Он умеет
переселяться в душу поселянина,— его мужик чрезвычайно верен своей натуре,— в
речах его мужика нет прикрас, нет реторики, понятия
крестьян передаются у графа Толстого с такою же правдивостью и рельефностью,
как характеры наших солдат... В крестьянской избе он так же дома, как в
походной палатке кавказского солдата».[119]
Чернышевский
с предельной точностью охарактеризовал в этих словах то принципиально повое,
что внес молодой Толстой в изображение крепостного крестьянства, а тем самым и
крепостной действительности в делом, по сравнению со
своими предшественниками.
Утверждая положительное содержание крестьянского характера, Герцен
(«Сорока-воровка»), Григорович («Деревня» и «Антон Горемыка»), Тургенев
(«Записки охотника») обличали бесчеловечность личной зависимости крестьян от
помещиков, жестокость помещичьего произвола. Защищая попранные крепостническим
насилием человеческие права крестьянина, эти писатели раскрывали крестьянский
характер преимущественно со стороны того, что сближало, уравнивало его
внутренний мир с чувствами и переживаниями культурных, образованных людей.
Этим путем утверждалось писателями-реалистами 40-х гг. «естественное» равенство
крепостного мужика с его «образованным и цивилизованным» господином.
Толстой
идет дальше. Он стремится постичь и показать прежде
всего то, что в корме отличает крестьянство от господствующих классов
крепостнического общества и на этом пути раскрывает социальное своеобразие крестьянского
характера, крестьянской жизнедеятельности, крестьянского строя мыслей и чувств,
заключающееся в их трудовой природе. Именно этим, т. е. раскрытием трудовой
природы крестьянского характера, как положительного общественного и
нравственного начала, противостоящего паразитизму, «праздности»
господствующего крепостнического класса, и определяется небывалая до того
«верность своей натуре», т, е. социальная типичность образов крепостных
мужиков и солдат, обрисованных Толстым в «Утре помещика» и в военных
рассказах.
Мужик для
Толстого - прежде всего, человек труда, а труд — «великий двигатель
человеческой природы, единственный источник земного счастия
и добродетели». Вот почему трудовой крестьянский взгляд на вещи выступает в
«Утре помещика» не только в качестве основного объекта изображения, но и в
качестве руководящего критерия оценки крепостной действительности. При всех своих
индивидуальных различиях Иван Чурис, Юхвапка Мудреный, Давыдка Белый
одинаково убеждены в том, что сколько бы они ни
трудились, нищенские условия их существования от этого не изменятся. И в этом
горьком, воспитанном вековой крепостнической кабалой убеждении со всей
несомненностью раскрывается безысходность положения крепостного труженика, па
которое он был обречен всеми социальным и условиями своего подневольного
существования.
Реалистическое
отображение в «Утре помещика» крестьянского трудового взгляда на вещи выражает
ведущую тенденцию дореформенного творчества Толстого и является в нем основным
художественным средством реалистического изображения крепостной
действительности.
У Толстого
впервые, причем начиная с самых ранних его
произведений, простой русский мужик заговорил от своего собственного лица и
своим собственным голосом. Из предмета гуманного сочувствия, из безответной
жертвы крепостнического произвола, каким этот мужик являлся в «Деревне» и
«Антоне Горемыке» Григоровича, в «Записках охотника» Тургенева, он вырастает у
Толстого в носителя истинно человеческой нравственности, разоблачающей ложь
этических и эстетических норм крепостнической морали.
Однако вместе с трудовой, здоровой и трезвой природой крестьянского взгляда на жизнь. Толстой возвеличивает в образах Ивана Чуриса, Натальи Савишны и некоторых других также и отсталые, реакционные черты крепостного крестьянства: его патриархальное смирение, стихийность, общественную пассивность. Тем самым в этих образах уже явственно намечается одно из основных противоречий зрелого и позднего творчества писателя.
Творческая
история «Четырех эпох развития» и «Романа русского помещика» свидетельствует о
том, что эти исходные и, как принято думать, столь противоположные друг другу
художественные замыслы Толстого неразрывно связаны между собой не только в
сюжетном, но и в идейном отношении. Оба они проникнуты отрицанием
нравственно-психологических норм дворянско-поместной жизни, оба в одинаковой
мере несут в себе утверждение правды и нравственной красоты трудового
крестьянского сознания. Однако эта ведущая и
безусловно демократическая тенденция ранних художественных замыслов Толстого
как в том, так и в другом случае, ограничена этическим подходом писателя к
волновавшим его и важнейшим социальным вопросам русской предреформенной
жизни.
На той же
идейной основе возникают у Толстого и замыслы его ранних рассказов «Святочная
ночь» и «Записки маркера».
В
«Святочной ночи» («Как гибнет любовь»), писавшейся одновременно с
«Отрочеством» и «Романом русского помещика» в 1853 г., повествуется о
губительном влиянии светского общества и его развращенных нравов на юношу,
только вступающего на самостоятельный путь. Как по теме, так и по некоторым
именам действующих лиц (Сережа Ивин, князь Корнаков), «Святочная ночь» непосредственно
примыкает к «Четырем эпохам развития» и представляет собой как бы фрагмент ее
четвертой и неосуществленной части — «Молодости». Однако с неменьшим
основанием в рассказе можно видеть и набросок одной из «столичных» сцен
«Романа русского помещика».
Прямым
выводом из обрисованной в трилогии истории морального развития Николеньки Иртеньева звучит в рассказе авторская сентенция,
заключающая историю падения ее героя, чистого юноши, брошенного его светскими
покровителями в объятия продажной женщины: «Кто виноват? Неужели Alexandre, что
он поддался влиянию людей, которых он любил, и чувству природы? Конечно, он
виноват; но кто бросит в него первый камень? Виноват ли и Н. Н. и Генерал? Эти
люди, назначение которых делать зло, которые полезны, как искусители, придающие
больше цены добру? Но виноваты вы, которые терпите их; не только терпите, но
избираете своими руководителями»[120].
Очевидно, что, говоря так, Толстой обращался к светскому обществу, как
таковому, возводящему развращенность своих нравов в жизненную норму, жертвой
которой и падает герой рассказа. С наибольшей силой порочность этой нормы раскрывается
и обличается в образе светского приятеля князя Корнакова
— г. Долгова. Долгов — типичное олицетворение «ничтожности и подлости»
великосветских «достоинств»: «Богатство, знатность, уменье жить, большие
разнообразные способности, погибнувшие или
изуродованные праздностью и пороком. Цинический ум, не останавливающийся ни
перед каким вопросом и обсуживающий всякий в пользу низких страстей.
Совершенное отсутствие совести, стыда и понятия о моральных наслаждениях. Не скрытый
эгоизм порока. Дар грубого и резкого слова. Сладострастие, обжорство,
пьянство; презрение ко всему, исключая самого себя. Взгляд на вещи только с 2-х
сторон: со стороны наслаждения, которое они могут доставить, и их недостатков,
и две главные черты: бесполезная, бесцельная, совершенно праздная жизнь и самый
гнусный разврат, который он не только не скрывает, а
как будто находя достоинство в своем цинизме, с радостью обнаруживает. Про него
говорят, что он дурной человек; но всегда и везде его уважают и дорожат связями
с ним...»[121]
Напомним,
что эти строки были написаны Толстым в 1853 г. Данная в них суммарная
характеристика светского цинизма, праздности и развращенности в несколько
смягченной форме была воплощена впоследствии в «Отрочестве» и «Юности» в
образах отца Иртеньевых, Володи, Корнаковых,
Дубкова.
Оставив
«Святочную ночь» незаконченной, Толстой во второй половине того же 1853 г. на
протяжении нескольких дней создает рассказ «Записки маркера». В сущности, это
новая вариация темы «Святочной ночи», темы, нравственного падения молодого
человека в условиях праздного и развращенного светского существования. Но она
развита в «Записках маркера» значительно шире. Самоубийство князя Нехлюдова, на
которое его толкает сознание всей безысходности своего морального падения,
является ее логическим завершением.
В
черновиках рассказа находим отрывочные замечания, связывающие его с идейной
проблематикой «Романа русского помещика». Так, в предсмертном письме Нехлюдова
имеется следующее признание: «Мне нужны были деньги для удовлетворения своих
пороков и тщеславия — я разорил тысячи семейств, вверенных мне богом, и сделал
это без стыда,— я, который так хорошо понимал эти священные обязанности»[122].
В первой редакции рассказа последняя фраза читается так: «И это сделал я,
который отроком так хорошо понимал священную обязанность помещика»[123].
«Записки
маркера» — последнее произведение из написанных
Толстым на Кавказе.
В центре
творческих исканий Толстого этого времени неизменно стоит основной вопрос
современности — кризис крепостнических отношений. Еще далекий от понимания
истинных причин этого кризиса, Толстой по-своему и по-новому отражает в своих
ранних произведениях многие характерные проявления разложения крепостнической
системы: все возрастающие бедствия крестьянских масс, духовное и экономическое
оскудение поместного дворянства. В процессе творческого осмысления этих характернейших процессов и явлений предреформенной
действительности Толстой выдвигает новый и безусловно
демократический критерий ее оценки, критерий трудовой ценности человека.
Утверждая жизненную правду и нравственную красоту трудового крестьянского
взгляда на вещи, писатель критически переоценивает таким путем и развенчивает
этические и эстетические нормы господствующей крепостнической идеологии.
На этом
пути Толстой постепенно изживает сословно-дворянскую ограниченность собственных
воззрений, навязанных ему происхождением и воспитанием, отказывается от
идеализации крепостнических отношений, убеждается в нетерпимости «рабства».
Источник: Купреянова Е.Н. Молодой Толстой. - Тула:
Тульское книжное издательство, 1956. - 216 с.
[1] А.М. Горький История русской литературы.
Гослитиздат, М.,
1939, стр. 296.
[2] «Известия Акад. наук СССР. Отд. лит.
и языка», 1953, т. 12, вып.
4, стр. 297.
[3] В.И.
Ленин, Соч., т. 18, стр. 9, 10.
[4] Там ж е, т. 2, стр. 201.
[5] Л. Н.
Толстой, Сборник статей и материалов.
1951, стр. 196.
[6] Т а м же.
[7]
В.И.
Ленин, Соч., т. 16, стр. 302.
[8] С. Бычков,
Л.Н. Толстой. Очерк творчества.
М., ГИХЛ, 1954, стр. 23, 28.
[11]
Там
же, т. 17, стр. 29.
[12]
Т а м
ж е, стр. 32.
[13] В.И.
Ленин, Соч., т. 17, стр. 90.
[14] Т а м же,
стр. 84.
[15] Т а м же,
стр. 99.
[16] Там же, т. 16, стр. 301.
[17] Б. М
е й л а х Леггян и проблемы русской литературы, ГИХЛ, 1947, М., стр.
335 и след.
[18] Творчество
Л. Н. Толстого. Сборник статей. Изд. Акад. наук СССР, 1954, стр. 82.
[19] Т а м
ж е, стр.
5.
[20]
«Октябрь», 1953, кн. 9.
[21] В.Г. Белинский, Собр. соч. в 3-х тт., т. 3, 1948, стр. 810.
[22] В. Г. Белинский, Собр. соч. в 3-х тт. М., ГИХЛ, 1948, т. 3, стр. 832—833.
[23] В. Г. Белинский, Собр. соч. в 3-х тт., т. 3, 1948, стр. 756.
[24] Т а м же, стр. 734.
[25]
В.Г.
Белинский,
Собр. соч. в 3-х тт., т. 3, 1948, стр. 834.
[26]
Л.Н.
Т о л с т о й, Полн. собр. соч. (юбил.), т. 34, стр.
383.
[27]
А.И. Г е
р ц е
н. Собр. соч. в 30 тт. М., изд. Акад.
наук СССР, т. 2, 1954, стр. 74.
[28]
А.И. Г е
р ц е
н, Собр соч. в
30 тт., М., изд.
Акад. наук СССР, т. 2, 1954, стр. 76 -77.
[29] А.И. Г е
р ц е н, Собр.
соч. в 30 тт., М., изд. Акад. наук СССР, т. 2, 1954, стр. 77.
[30] Л.Н. Т о л с т о
й, т. 53, стр. 94. Обращает на себя внимание
близость этого определения к тому, как понимал сущность и задачи искусства
Гоголь. Основное дело художника состояло, по мнению Гоголя, «в глубоком
внутреннем созерцании, в исследовании собственной души своей, ибо там законы
всего и всему: найди только прежде ключ к своей собственной душе: когда же
найдешь, тогда этим самым ключом отопрешь души всех» (Собр. соч.
под ред. Каллаша, т. 8, стр. 40.).
[31] Н.Г. Чернышевский, Полн.
собр. соч., ГИХЛ, т. 3, стр. 426.
[32] Л.Н. Т о л с т
о й, т. 46, стр. 150-151.
[33]
Л.Н.
Толстой, Полн. собр. соч. (юбил.), т. 46, стр.
187-188.
[34]
Л.Н.
Толстой, Полн.
собр. соч. (юбил.), т. 1, стр.
45.
[35] Л. Н.
Толстой,
т. 1, стр. 37.
[36]
Т а м же,
стр. 38.
[39]
Л.Н.
Толстой, т. 1, стр. 30.
[40] Т а м же, стр. 106.
[43]
Т а
м же, т. 2, стр. 58.
[44] Т а м же,
т. 2. стр. 243.
[45] Л.Н. Толстой, т. 2, стр. 274.
[46] Там же, стр. 14—15.
[47] Л.Н. Толстой, т. 2, стр. 61, 62.
[48] Л.Н. Толстой, т. 2, стр. 64.
[49] Т а м же, стр. 173.
[50]
Л.Н. Т о л с т
о й,
т. 2, стр. 174 — 175.
[51]
Там же, стр. 218.
[52] Там же, стр. 85.
[53] Л.Н. Т о л с т о
й, т. 2,
стр. 223.
[54] Л.Н. Т о л
с т о й, т. 2. стр. 226.
[55]
Н.Г. Чернышевский,
Полн. собр. соч., т, 3, М., ГИХЛ, 1948,
стр. 428.
[56]
Там же, стр. 427.
[57]
Л.Н. Толстой, т. 1, стр. 23.
[58]
Т а м же,
стр. 41.
[59]
Л.Н. Толстой,
т. 1, стр. 95.
[60] Т а м ж е, т. 2, стр. 43.
[61] Л.Н. Толстой, т. 2, стр. 52.
[62] Л.Н. Толстой, т. 2, стр.
52—53.
[65]
Т а м же, стр. 80.
[66] Т а м же, стр. 178.
[67] Л.Н. Толстой, т. 2, стр. 179.
[68] Л.Н. Толстой, т. 2, стр. 242.
[69] Т а м же, стр. 245.
[70] Т а м же, т. 1, стр. 173, 174.
[71] Н.Н. Гусев,
Л. Н. Толстой, Материалы к биографии с 1828 по 1855 г. Изд. Акад. наук
СССР, 1954, стр. 211.
[72]
Л.Н. Толстой, т. 59, стр. 139.
[75]
Там же, т. 46, стр. 112.
[76]
Там же.
[77]
Л.Н. Толстой, т.
46, стр. 150—151.
[80]
Л.Н.
Толстой, т. 59,
стр. 218.
[81] Т а м же, т. 46, стр. 154.
[82] Т а м ж е, стр. 137.
[83] Л.Н. Толстой, т. 46. стр. 145—146.
[84] Там же, т. 4, стр. 363.
[85]
Л.Н. Толстой, т.
4, стр. 314.
[86]
Т а м же.
[91] В кн. «Л.Н. Толстой, Сборник статей и материалов». Изд. Акад. наук СССР; М., 1951, стр. 321.
[92] Л.Н. Т о л с т о
й, т.
4, стр.
310.
[93]
Л.Н. То л с т
о й, т.
4, стр. 310,
312,
[94]
Там же, стр. 313.
[95] Там же, стр. 321.
[96] Там же,
стр. 309.
[97] Д.В. Григорович, Полн. собр. соч. в 12 тт. СПб., 1896, т. 2, стр. 116—117.
[98] Л.Н. Т о л с т о й, т. 3, стр. 219, 220.
[99] Л.Н. Т о л с т о й, т. 4, стр. 379.
[100] Т а
м же, т.
46, стр. 132.
[101]
Т а м же, стр. 151.
[102]
Т а м ж е.
[103]
Л.Н. Т о л с т
о й, т. 3, стр. 37, 69
[104]
Л.Н. Толстой, т. 4. стр. 337.
[107] Л.Н. Толстой, т. 4, стр. 331.
[108]
Там же, стр. 341—342.
[109] В.Г. Белинский, Собр. соч. в 3-х тт. 1948, т. 3, стр. 787.
[110]
Там же, стр. 787—788.
[111]
Л.Н. Толстой, т. 4, стр. 341. Это перенесение
психологического типа Давыдки в условия господской
жизни во многом предвосхищает проблематику «Обломова» (1859) и образ Ильи
Ильича.
[114] Л.Н. Толстой, т. 4, стр. 355.
[115] Л.Н. Толстой, т. 4, стр. 351.
[116] Н.Г. Чернышевский, Поли.
собр. соч. в 15 тт. ДМ., ГИХЛ, 1949, т. 2, стр. 10.