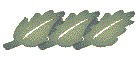|
|
ТРИЛОГИЯ
«ДЕТСТВО», «ОТРОЧЕСТВО», «ЮНОСТЬ» |
|
Статья Н.Н. Скатова
«12 августа 18... ровно в третий день после дня моего рождения, в
который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в 7 часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой— из сахарной
бумаги на палке — по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок
моего ангела, висевший на дубовой спинке
кровати, и что убитая муха упала мне
прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но
сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же,
в пестром ваточном халате, подпоясанный
поясом из той же материи, в красной
вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать».
Так начинается толстовское «Детство». И так на наших глазах Толстой
начинает глубинную перестройку литературы и всего художественного сознания в его
целом.
До Толстого
в подобной сцене, прежде всего, определяющими оказались бы известный бытовой
уклад, его воздействие на принадлежащего ему человека. Вспомним, что в
опубликованном незадолго перед «Детством» «Сне Обломова», вошедшем позднее в знаменитый гончаровский
роман, привычный уклад быта, вся сложившаяся система отношений в быту так и не дают в мальчике проявиться,
«выйти в дело» его собственным желаниям и
устремлениям.
История же
героя на страницах «Детства» открывается тем, что Николенька просыпается и
тотчас же начинает выяснять, почему это
произошло и как ему самому к обстоятельствам своего пробуждения
отнестись. А Толстой, не отрываясь, вглядывается, как же пойдет, как развернется в маленьком Иртеньеве вот на этом пустом вроде бы месте процесс его душевной жизни. Вглядывается, потому
что сложившиеся условия и установления перестают уже обладать над
человеком прежней властью, не могут больше снять или хотя бы отодвинуть
значения его собственных душевных движений.
Тогда же
примерно, когда Толстой создавал «Детство», Герцен в «Былом и думах», имея за
своим автобиографическим героем непосредственно собственный опыт превращения дворянского юноши в
революционера-подвижника, находил
совершившемуся объяснение в прямом диктате крупнейших, выдающихся
событий современной истории. Много внимания уделил он тому, что появился на
свет в 1812 году, что семейная драма его вписана в год 1848-й... За самим человеком, над ним и здесь
оставалось, таким образом, что-то, что как бы предуказывало
его формирование.
В
окончательном тексте «Детства» с первой же сцены перед нами все то, и только
то, что замечено, воспринимается самим Николенькой. Что сохраняется потом в его
собственной памяти. Так, решающе важной становилась теперь вместо давления
среды, времени «диалектика души» самого человека (как назовет это, опираясь
именно на изображения Толстого и в статье о Толстом, Чернышевский), его собственная душевная работа.
Любого, всякого человека. Даже ничем и никак не выделяющегося.
Произведенный Толстым (и по-другому Достоевским) сдвиг, переворот в воссоздании жизни
знаменовал собою начало той эпохи, когда людям самим предстояло складывать свои
судьбы, когда в них самих судьбы эти стали определяться.
Эпохи революции. Хотя в «Детстве» Николенька делает на пути своего
движения лишь первые шаги,
Толстой уже
рассказывает, как Николенька задумывается вдруг о несправедливости, как не
может о ней забыть, как «набирает» и
«набирает» в остроте переживания ее, в своем представлении о ней
обнаруживает, что дорога здесь перед его героем, перед человеком вообще
простирается бесконечная.
Всей своей жизнью Толстой затем подтвердит, что пройти по этой дороге
можно было и в самом деле далеко. А пока, открывая свою первую повесть пустяковым как будто эпизодом с мухой и
завершая ее смутными предчувствиями героя на пороге отрочества, писатель
убеждал, что совершается в любом человеке работа души постоянно, непрерывно
идет в каждом по-своему, что вехи, ступени ее у всякого собственные,
неповторимые, его, почему повествование
об Иртеньеве и имеет такие неожиданные начало и
конец, могло бы бесконечно продолжаться и в одну, и в другую сторону и в воспроизводимом ничто не должно быть упущено или опущено.
Оказавшись
главным предметом толстовского внимания и изображения, «диалектика души» тут же
становилась и первоосновным творческим
принципом писателя, его художественным
методом, то есть особым способом
осваивать мир, о чем тоже с предельной чуткостью и точностью сказал
Чернышевский. Новая историческая пора обозначалась одновременно в жизни, в
литературе, в критике... Человеческий потенциал подымался,
выказывал себя по всему фронту менявшейся русской действительности.
Тут везде
неповторимо детские впечатления тех самых минут,
когда Николенька, которому только исполнилось десять лет, проснулся
утром в своей кроватке.
«Матушка
сидела в гостиной и разливала чай: одной рукой она придерживала чайник, другою
— кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя
она смотрела пристально, она не замечала и того, что мы вошли». Это первые
строки второй главы «Детства». И это опять-таки живое восприятие Николеньки,
когда он входит, вот сейчас, в гостиную.
Первая
повесть Толстого и разворачивается, переходя от одного очень конкретного и
очень частного впечатления мальчика к другому такому же. Она сама живет вроде
бы так же, как ребенок в своих контактах с миром.
И, однако, в первой же строке «Детства» время действия указано таким образом, что очевидно: все
это было все-таки давно — число,
месяц, год помечены издалека.
В «воображении» взрослого человека прошлое, давнее может, оказывается, ожить заново с тою же
полнотой, с тою же первоначальностью, с
какими оно некогда — в детстве, в
отрочестве, в юности — в его сознание, в его душу впервые вошло. Именно ожить в «воображении».
«Воображение» не только воскрешает прошлое. В нем также таится — в
самом буквальном смысле этого слова — будущее. Маленький Николенька как будто
только выдумал сон о смерти maman, чтобы как-то объяснить свои слезы. Однако maman вскоре и в самом деле умерла. Выдуманный сон — из первой главы «Детства»; смертью maman,
переживанием этой смерти детство Николеньки заканчивается. И, значит, такая именно выдумка пришла мальчику в
голову не случайно.
«Это была действительность, это было больше, чем действительность: это
было действительность и воспоминание»,— читаем мы у Толстого. И в самом
движении фразы предстает усилие связывания, соединения разного, разнородного. А то, как
присутствует детство в книге, написанной взрослым человеком, обнаруживаем, что
затрачиваемые
усилия не напрасны. Свершения искусства Толстого были свершениями самой жизни.
В 1847 году в «Письмах из Avenue Marigny» Герцен заявил: «Понять всю ширину и действительность, понять всю святость прав личности и не разрушить, не
раздробить на атомы общества самая
трудная социальная задача. Ее
разрешит, вероятно, сама история для будущего, в прошедшем она никогда не была
разрешена».
Толстой, казалось бы, сразу и целиком уходил в неповторимую
единственность индивидуальных развитии. Да, именно и только вот
этот мальчик, Николенька Иртеньев, мог именно так
проснуться, разбуженный Карлом Иванычем, рано утром в
третий день после того, как ему исполнилось десять лет. И все подробности
пробуждения к нему лишь одному и относятся.
Но изображение доходит до такой «мелочности», что тут-то и происходит «генерализация» (оба эти термина принадлежат самому Толстому и настойчиво им использовались). Потому что при всей неповторимой единственности узора и сплетений «диалектики души» в этом или ином случае составляются-то узор и сплетения из «материалов» душевной жизни, в самом конечном счете в самых мельчайших своих частицах общих всем людям, и в этих мельчайших частицах сугубо Николенькино оказывается близким любому из нас, читателей разных эпох, сходится самым непосредственным образом с чем-то в каждом человеке.
Толстовский Иртеньев, живя вновь своим детством, всем своим детством, восклицает однажды: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней?» Но кто не почувствует себя здесь, пройдя дорогами повествования, хоть в самой малой мере вместе с Иртеньевым? Или когда Иртеньев спросит уже прямо у всякого из нас: «Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной?»
Мы часто говорим об общечеловеческом в
классике. Так оно и есть. Чем и объясняется непреходящее ее значение, но к Толстому этот тезис приложим в
степени особой, в смысле самом прямом. Люди
совсем другого времени и иных жизненных условий, мы совершенно узнаем в толстовских изображениях первой влюбленности Наташи
Ростовой или отчаяния ее брата при
его проигрыше Долохову какие-то
собственные свои переживания. И это оттого, что, входя в процесс протекания душевной жизни, Толстой обнаруживал в его «микроэлементах» некие
непреложные свойства самой материи, если можно так сказать, человеческого существования. Те, без которых и вне
которых оно но
является собою, не может сохранить отличительных своих качеств.
Когда Николенька переступает порог детства, одной бессознательной
привязанности ко всем, с кем он до сих пор был в общении, становится недостаточно. Да и
не дано ей, такой, какая она есть, устоять. Поначалу Николенька впадает при этом
в отчаяние. Все представляются ему только чужими и враждебными, не способными и
не желающими его понять. И весь период отрочества кажется взрослому Иртеньеву сплошной «бесплодной пустыней».
А затем Николенька начинает выстраивать свою дружбу с Нехлюдовым. Но
ими обоими — и Николенькой, и Нехлюдовым — она создается искусственно, мучительно
придумывается.
И потому подлинной близости не получается. Напротив, теряет силу и то, что могло бы
молодых людей в самом деле свести. Однако Толстой
сосредоточен на возможностях действительного человеческого общения и единения все больше.
Толстой глубоко входил во многие не тронутые или почти не тронутые литературой пласты
реальности, и возникала опасность утраты, раздробления целостной картины мира.
Но толстовские изображения этой опасности органически противостояли.
Вот в
«Детстве» «в комнату вошел человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым оспою
продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он
был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только
нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нем было надето что-то
изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в руке он держал огромный посох.
Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им по полу и, скривив брови и чрезмерно
раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на
один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без
того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение». И повсюду здесь неразрывны юродивый Гриша и то, как подействовал он на
мальчика Николеньку, как навсегда остался в иртеньевском
сознании. Ведь и в огромности посоха, и в чрезмерной раскрытости
рта, и в страшной неестественности хохота, и в отвратительном выражении
некрасивого лица... в равной мере обнаруживают себя и сам юродивый, и реакция
на него Николеньки, сохраняющаяся во взрослом Иртеньеве.
Одно с другим сливается нераздельно.
Так же это
и с днем охоты: «День был жаркий. Белые, причудливых форм тучки с утра
показались на горизонте; потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький
ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Сколько ни ходили и ни чернели
тучи, видно, не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать
нашему удовольствию». Не герой появляется «на фоне» какого-то отдельного от
него состояния природы, где-то рядом с нею, но словно бы сам он ее с собою
вводит, и вводит в той степени, в какой она явилась фактом его душевных переживаний.
Углубляясь
в реальность, Толстой сберегал целостности воссоздания ее в искусстве, чему
служила новая наполненность, новая емкость
рождавшихся еще в трилогии изображений.
Источник: История русской
литературы XIX века: Вторая половина: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец №2101 «Рус.
яз. и лит.» / Н.Н. Скатов, Ю.В. Лебедев, А.И. Журавлева и др.; Под ред. Н.Н. Скатова. - М.:
Просвещение, 1987. - 608 с.